И. Кант. Раздел 2. О свойствах возвышенного и прекрасного у человека вообще
Ум возвышен, остроумие прекрасно. Смелость возвышенна и величественна, хитрость ничтожна, но красива. Осторожность, говорил Кромвель, есть добродетель бургомистра. Правдивость и честность просты и благородны, шутка и угодливая лесть тонки и красивы. Учтивость — украшение добродетели. Бескорыстное служебное рвение благородно, утонченность и вежливость прекрасны. Возвышенные свойства внушают уважение, прекрасные же — любовь. Люди, чувство которых обращено преимущественно на прекрасное, ищут себе честных, верных и серьезных друзей только в несчастье, для повседневного же общения они избирают себе шутливого, учтивого и вежливого собеседника. Некоторых людей ценят слишком высоко, чтобы их можно было любить. Они внушают нам удивление, но настолько превосходят нас, что мы не решаемся приблизиться к ним с истинным чувством любви.
Те, кто сочетает в себе оба эти чувства, найдут, что умиление, вызываемое возвышенным, сильнее умиления, вызываемого прекрасным.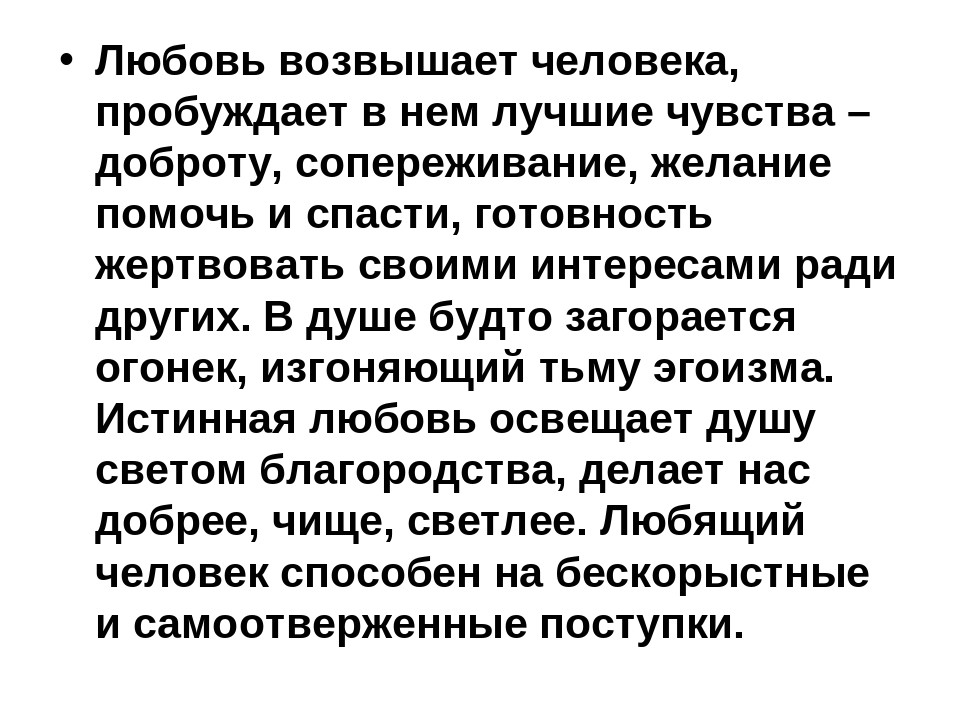
Ощущения возвышенного больше напрягают душевные силы и потому скорее утомляют. Пасторали можно читать без перерыва дольше, чем “Потерянный рай” Мильтона, а произведения Лабрюйера — дольше, чем произведения Юнга. И мне даже кажется, что недостаток Юнга как поэта-моралиста состоит в том, что он слишком однообразно придерживается возвышенного тона; ведь силу впечатления можно возобновлять, лишь разнообразя его более легким содержанием. При восприятии прекрасного ничто не утомляет более, чем тягостная искусственность, которая обнаруживается при этом. Старание пленять вызывает неприятное и мучительное ощущение.
Глубокие чувства, до которых возвышается иногда беседа в избранном обществе, должны время от времени находить разрядку в веселой шутке, а радостный смех должен составить прекрасный контраст к растроганному и серьезному выражению лица, способствуя тому, чтобы оба вида этих ощущений непринужденно сменяли друг друга.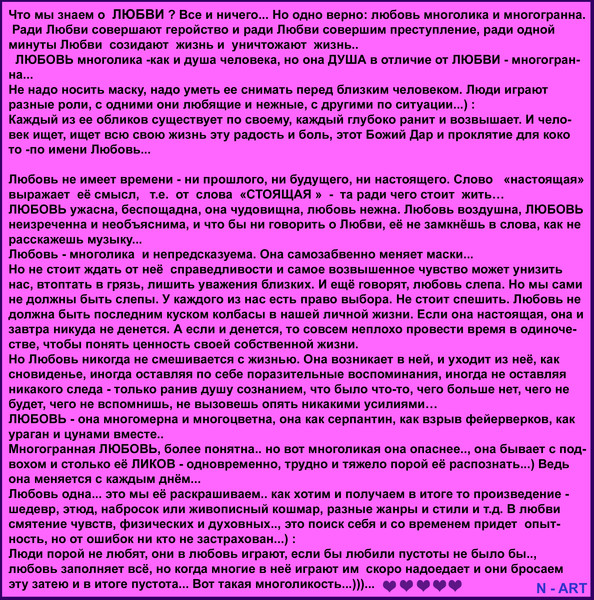 Для дружбы характерно главным образом возвышенное, для любви же между мужчиной и женщиной — прекрасное. Однако нежность и глубокое уважение придают этой любви известное достоинство и возвышенность, а забавная шутка и интимность усиливают в этом чувстве колорит прекрасного. Трагедия, на мой взгляд, отличается от комедии главным образом тем, что первая возбуждает чувство возвышенного, а вторая — чувство прекрасного. В первой перед нами выступает великодушное самопожертвование для блага других, отважная решимость в опасностях и испытанная верность. Любовь там печальна, нежна и исполнена глубокого уважения, несчастье же других пробуждает в душе у зрителя сочувствие, чужое горе заставляет сильнее биться великодушное сердце. Зритель тронут и ощущает благородство своей собственной натуры. Комедия, напротив, изображает тонкие интриги, забавную неразбериху, остряков, умеющих выпутаться из всякого положения, глупцов, позволяющих себя обманывать, шутки и смешные характеры. Любовь здесь не так мрачна, она весела и непринужденна.
Для дружбы характерно главным образом возвышенное, для любви же между мужчиной и женщиной — прекрасное. Однако нежность и глубокое уважение придают этой любви известное достоинство и возвышенность, а забавная шутка и интимность усиливают в этом чувстве колорит прекрасного. Трагедия, на мой взгляд, отличается от комедии главным образом тем, что первая возбуждает чувство возвышенного, а вторая — чувство прекрасного. В первой перед нами выступает великодушное самопожертвование для блага других, отважная решимость в опасностях и испытанная верность. Любовь там печальна, нежна и исполнена глубокого уважения, несчастье же других пробуждает в душе у зрителя сочувствие, чужое горе заставляет сильнее биться великодушное сердце. Зритель тронут и ощущает благородство своей собственной натуры. Комедия, напротив, изображает тонкие интриги, забавную неразбериху, остряков, умеющих выпутаться из всякого положения, глупцов, позволяющих себя обманывать, шутки и смешные характеры. Любовь здесь не так мрачна, она весела и непринужденна.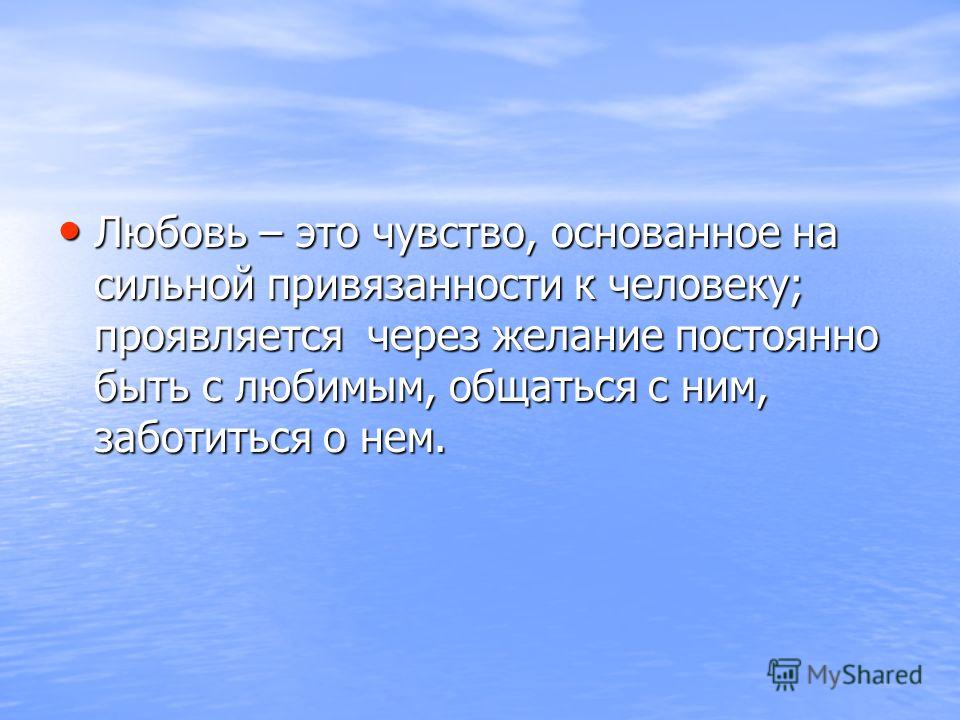
Даже пороки и нравственные недостатки не лишены иногда некоторых черт возвышенного или прекрасного, по крайней мере в том виде, в каком они предстают нашему непосредственному чувству, не осознанному еще разумом. Гнев человека, внушающего страх, имеет возвышенный характер, как гнев Ахилла в “Илиаде”. Вообще герой Гомера устрашающе-возвышен., тоща как герой Вергилия благороден. В открытой смелой мести за сильное оскорбление есть что-то величественное, и, как бы непозволительна она ни была, она в рассказе все же трогает нас ужасом и вызывает благоволение. Коща на шаха Надира в его шатре ночью напало несколько заговорщиков, то он, как рассказывает Ганвей, отчаянно защищаясь, раненный, воскликнул: “Пощадите! Я всех вас прошу”. Тогда один из нападавших, занеся над ним саблю, ответил: “Ты никого не щадил и не заслуживаешь пощады”. Решительная отвага, проявленная подлецом, в высшей степени опасна, но в рассказе она все же трогает, и, даже когда его ведут на позорную казнь, он до известной степени облагораживает ее тем, что встречает ее с гордым презрением.
Облик тех, кто нравится своей внешностью, затрагивает то одно, то другое из названных чувств. Так, высокий рост обращает на себя внимание и внушает уважение, маленький рост располагает больше к непринужденности.
Смугловатое лицо и черные глаза ближе к возвышенному, голубые глаза и светлые волосы — к прекрасному. Более почтенный возраст сочетается со свойствами возвышенного, молодость же — со свойствами прекрасного. Так же обстоит дело и с различием по сословиям, и во всех этих только что упомянутых случаях даже вид одежды должен соответствовать этому различию чувств. Люди высокого роста, заметные должны соблюдать в своей одежде простоту или — самое большее — изысканность, люди маленького роста могут быть нарядными и разукрашенными.
Во внешнем благополучии также есть нечто, что по крайней мере в воображении людей имеет отношение к этого рода чувствам. Происхождение и звание обыкновенно располагают людей к уважению. Богатство, хотя бы и без заслуг, почитается даже людьми бескорыстными, потому вероятно, что с представлением о нем связываются мысли о великих деяниях, которые посредством него могли бы быть совершены. Это уважение выпадает заодно и на долю некоторых богатых мерзавцев, которые подобных деяний никогда не совершат и не имеют никакого понятия о благородном чувстве, которое единственно могло бы придать богатствам какую-то ценность. Зло, причиняемое бедностью, усугубляется презрением, которое даже заслуги не могут полностью перевесить, по крайней мере в глазах толпы, разве что чин и звание введут в заблуждение это грубое чувство и обманут к его же пользе.
В человеческой природе никогда не бывает достойных качеств, отклонения от которых не переходили бы через бесконечные оттенки в самые крайние несовершенства. Устрашающе-возвышенное, если оно совершенно неестественно, приобретает рискованный характер (когда возвышенное или прекрасное превосходят меру, их обыкновенно называют романтическими). Неестественное, если предполагают, что в нем есть возвышенное, хотя бы его и было в нем мало или вовсе не было, представляет собой гримасничанье. Кто любит все рискованное и верит в него, тот фантазеру склонность же к гримасам делает из человека чудака. С другой стороны, чувство прекрасного извращается, если при этом совершенно отсутствует благородство, и тогда его называют нелепым. Мужчину с таким качеством, если он молод, называют дурачком, а если он в среднем возрасте — шутом. Так как более пожилому возрасту всегда более пристойно возвышенное, то старый шут — самое презренное существо в мире, так же как молодой чудак — самое противное и несносное.
Не трудно заметить, что эта почтенная публика делится на две группы: на чудаков и шутов. Ученый чудак называется почтительно педантом. Если он принимает надменный вид мудреца, то подобно глупцам древних и новых времен ему очень к лицу колпак с бубенцами. Класс шутов чаще встречается в большом свете. Пожалуй, он все же несколько лучше первого.
С ними можно хорошо провести время и вдоволь посмеяться. И тем не менее в этой карикатуре один часто корчит другому рожу и своей пустой головой ударяется о голову своего собрата.
Этот курьезный очерк человеческих слабостей я попытаюсь пояснить несколькими примерами; ведь тот, кому не хватает гравировального резца Хогарта, должен отсутствие выразительности в своем изображении восполнить описанием. Готовность подвергнуться опасностям ради нас самих, ради нашего отечества и наших друзей — такая отвага возвышенна. Крестовые походы, старое рыцарство были авантюрны; дуэли, жалкий остаток их, основанный на превратном представлении о чести, суть гримасы. Грустное отрешение от мирской суеты из-за понятного пресыщения [ею ] благородно. Отшельническая набожность древних пустынников была причудлива. Монастыри и другие подобного рода склепы для заточения в них живых святых — это гримасы. Укрощение страстей ради принципов возвышенно. Умерщвление плоти, обеты и другие монашеские добродетели суть гримасы. Мощи, священное дерево и всякого рода подобный хлам, в том числе и священные испражнения великого ламы Тибета — все это гримасы. Из произведений, отличающихся остроумием и тонким чувством, эпические стихотворения Вергилия и Клопштока относятся к сфере благородного, Гомера и Мильтона — к области приключенческого, “Метаморфозы” Овидия суть гримасы, волшебные сказки французского суемудрия — самые жалкие гримасы, которые когда-либо были придуманы. Анакреонтические стихотворения обычно весьма близки к нелепому.
Мощи, священное дерево и всякого рода подобный хлам, в том числе и священные испражнения великого ламы Тибета — все это гримасы. Из произведений, отличающихся остроумием и тонким чувством, эпические стихотворения Вергилия и Клопштока относятся к сфере благородного, Гомера и Мильтона — к области приключенческого, “Метаморфозы” Овидия суть гримасы, волшебные сказки французского суемудрия — самые жалкие гримасы, которые когда-либо были придуманы. Анакреонтические стихотворения обычно весьма близки к нелепому.
Произведения ума и остроумия, если содержание их имеет какое-то касательство к чувству, равным образом причастны так или иначе к упомянутым различиям [возвышенного и прекрасного]. Математическое представление о бесконечной величине мироздания, рассуждения метафизики о вечности, о провидении, о бессмертии нашей души в известной мере возвышенны и благородны. С другой стороны, и философия немало извращается пустыми мудрствованиями, и видимость основательности [в ней] не мешает тому, чтобы четыре силлогистические фигуры по праву рассматривать просто как ученые гримасы.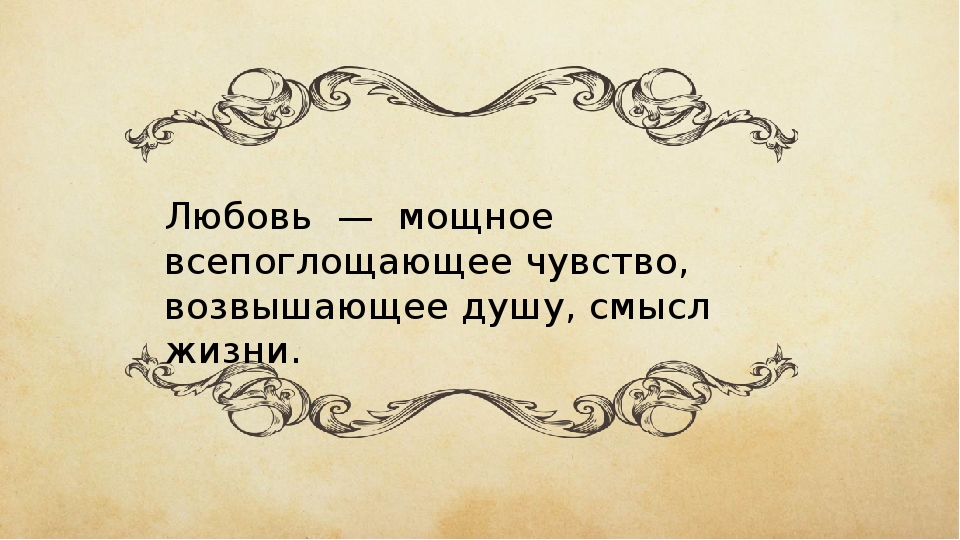
Среди моральных свойств только истинная добродетель возвышенна. Все же имеются и другие хорошие нравственные качества, привлекательные и прекрасные; если они согласуются с добродетелью, их можно рассматривать и как благородные, хотя, строго говоря, по своему характеру их нельзя отнести к добродетелям. Судить об этом — дело тонкое и сложное. Нельзя, конечно, назвать добродетельным расположение духа, приводящее к таким поступкам, к которым, правда, могла бы стремиться добродетель из соображений, случайно совпадающих с добродетелью, но по своей природе часто могущих даже противоречить общим правилам добродетели. Некоторое мягкосердечие, легко превращающееся в теплое чувство сострадания, прекрасно и привлекательно: оно свидетельствует о доброжелательном участии в судьбе других людей, к чему сводятся также и принципы добродетели. Однако эта благонравная склонность все же слаба и всегда слепа. В самом деле, допустим, что это чувство побуждает вас затратить часть ваших средств на помощь нуждающемуся, а вы между тем должны кому-то другому, и это лишает вас возможности исполнить строгий долг справедливости; очевидно, что в этом случае ваш поступок не может возникнуть из добродетельного намерения, ведь подобное намерение никак не могло бы побудить вас к тому, чтобы ради этого слепого влечения пожертвовать более высоким обязательством. Напротив, если благорасположение ко всему человеческому роду вообще стало для вас принципом, которому вы всеща подчиняете свои поступки, то любовь к нуждающемуся остается, но теперь она с некоторой высшей точки зрения поставлена в истинное отношение ко всей совокупности ваших обязательств. Вообще благожелательность к людям есть основание не только сочувствия к их бедам, но и справедливости, согласно предписанию которой вы в данный момент не должны совершать данный поступок. И вот как только это чувство достигнет надлежащей всеобщности, оно становится возвышенным, но и более холодным. Ведь невозможно, чтобы наше сердце преисполнялось нежным участием в судьбе каждого и чтобы мы по поводу каждого чужого несчастья впадали в уныние; иначе добродетельный человек, непрестанно проливая подобно Гераклиту слезы сострадания, при всем своем добросердечии оказался бы не чем иным, как только мягкосердечным бездельником.
Напротив, если благорасположение ко всему человеческому роду вообще стало для вас принципом, которому вы всеща подчиняете свои поступки, то любовь к нуждающемуся остается, но теперь она с некоторой высшей точки зрения поставлена в истинное отношение ко всей совокупности ваших обязательств. Вообще благожелательность к людям есть основание не только сочувствия к их бедам, но и справедливости, согласно предписанию которой вы в данный момент не должны совершать данный поступок. И вот как только это чувство достигнет надлежащей всеобщности, оно становится возвышенным, но и более холодным. Ведь невозможно, чтобы наше сердце преисполнялось нежным участием в судьбе каждого и чтобы мы по поводу каждого чужого несчастья впадали в уныние; иначе добродетельный человек, непрестанно проливая подобно Гераклиту слезы сострадания, при всем своем добросердечии оказался бы не чем иным, как только мягкосердечным бездельником.
При более пристальном внимании легко найти, что, как ни привлекательно сострадание, оно все же не обладает качеством добродетели.
Страдающий ребенок, несчастная и милая женщина заставляют наше сердце наполниться этим чувством уныния, и в то же время мы хладнокровно воспринимаем весть о большом сражении, в котором, как это легко сообразить, значительная часть человеческого рода должна безвинно погибнуть в ужасающих мучениях. Иной государь, с грустью отвращавший свое лицо из сострадания к какому-то одному несчастному человеку, тем не менее нередко из тщеславия отдает приказ о войне. Никакой пропорции в действии здесь нет; как же можно в таком случае сказать, что всеобщая любовь к людям есть причина [этих действий]?
Второй вид чувства благожелательности, несомненно прекрасного и привлекательного, но не составляющего еще основы истинной добродетели, — это предупредительность, стремление быть приятным другим своей приветливостью, готовностью пойти навстречу желаниям других и сообразовать свое поведение с их настроениями. Эта привлекательная обходительность прекрасна, и такая отзывчивость благородна. Однако это чувство вовсе не добродетель; более того, там, где высокие принципы не ограничивают и не ослабляют его, из него могут возникнуть всевозможные пороки. В самом деле, не говоря уже о том, что эта предупредительность, по отношению к тем, с кем мы общаемся, часто есть несправедливость по отношению к другим, находящимся вне этого тесного круга, такой человек, если иметь в виду только это побуждение, может обладать всеми пороками, и не в силу его непосредственных наклонностей, а потому, что он желает доставить кому-то удовольствие. Ради любвеобильной предупредительности он становится лжецом, бездельником, пьяницей и т. п., потому что он поступает не по правилам хорошего поведения вообще, а сообразно своей склонности, которая сама по себе прекрасна, но становится нелепой, поскольку она неустойчива и беспринципна.
Однако это чувство вовсе не добродетель; более того, там, где высокие принципы не ограничивают и не ослабляют его, из него могут возникнуть всевозможные пороки. В самом деле, не говоря уже о том, что эта предупредительность, по отношению к тем, с кем мы общаемся, часто есть несправедливость по отношению к другим, находящимся вне этого тесного круга, такой человек, если иметь в виду только это побуждение, может обладать всеми пороками, и не в силу его непосредственных наклонностей, а потому, что он желает доставить кому-то удовольствие. Ради любвеобильной предупредительности он становится лжецом, бездельником, пьяницей и т. п., потому что он поступает не по правилам хорошего поведения вообще, а сообразно своей склонности, которая сама по себе прекрасна, но становится нелепой, поскольку она неустойчива и беспринципна.
Вот почему истинная добродетель может опираться только на принципы, и, чем более общими они будут, тем возвышеннее и благороднее становится добродетель. Эти принципы не умозрительные правила, о осознание чувства, живущего в каждой человеческой душе и простирающегося не только на особые основания сострадания и услужливости, но гораздо дальше. Мне кажется, что я выражу все, если скажу, что это есть чувство красоты и чувство достоинства человеческой природы. Первое есть основание всеобщего благорасположения, второе — основание всеобщего уважения, и если бы это чувство достигло в каком-либо человеческом сердце высшей степени совершенства, то этот человек, правда, и самого себя любил и ценил бы, однако, лишь постольку, поскольку он лишь один из всех тех, на кого простирается его широкое и благородное чувство. Только тоща, когда мы подчиняем свои особые склонности такой обширной склонности, наши добрые стремления могут находить для себя соответственное применение и способствовать претворению в жизнь той благородной пристойности, которая и составляет красоту добродетели.
Мне кажется, что я выражу все, если скажу, что это есть чувство красоты и чувство достоинства человеческой природы. Первое есть основание всеобщего благорасположения, второе — основание всеобщего уважения, и если бы это чувство достигло в каком-либо человеческом сердце высшей степени совершенства, то этот человек, правда, и самого себя любил и ценил бы, однако, лишь постольку, поскольку он лишь один из всех тех, на кого простирается его широкое и благородное чувство. Только тоща, когда мы подчиняем свои особые склонности такой обширной склонности, наши добрые стремления могут находить для себя соответственное применение и способствовать претворению в жизнь той благородной пристойности, которая и составляет красоту добродетели.
Зная слабость человеческой природы и ничтожность власти, какую всеобщее моральное чувство могло бы проявить в отношении большинства [человеческих] сердец, провидение вложило в нас подобного рода вспомогательные стремления в качестве дополнений к добродетели; и эти стремления таковы, что в то время как одних они и без наличия принципов побуждают к благородным поступкам, другим, руководствующимся этими принципами, они способны дать более сильный толчок к добродетели и более сильное к ней побуждение. Сострадание и предупредительность представляют собой основания благородных поступков, которые при преобладании над ними более грубого чувства своекорыстия, быть может, вовсе не были бы совершенны, но они не составляют, как мы видели, непосредственных оснований добродетели, хотя они и приобретают ее название, когда, связанные с ней, облагораживаются. Я могу их поэтому назвать адаптированными добродетелями, а ту добродетель, которая зиждется на принципах, — истинной добродетелью. Те прекрасны и привлекательны, одна только эта возвышен на и достойна преклонения. Сердце, в котором господствуют ощущения первого рода, называют добрым сердцем, а человека обладающего им, — добросердечным; что же касается добродетельного человека, действующего согласно принципам, то мы можем с полным правом сказать, что у него благородное сердце, а его самого можем назвать честным. Адаптированные добродетели, однако, в значительной мере сходны с истинными, поскольку содержат в себе чувство непосредственного удовольствия от хороших и благожелательных поступков.
Сострадание и предупредительность представляют собой основания благородных поступков, которые при преобладании над ними более грубого чувства своекорыстия, быть может, вовсе не были бы совершенны, но они не составляют, как мы видели, непосредственных оснований добродетели, хотя они и приобретают ее название, когда, связанные с ней, облагораживаются. Я могу их поэтому назвать адаптированными добродетелями, а ту добродетель, которая зиждется на принципах, — истинной добродетелью. Те прекрасны и привлекательны, одна только эта возвышен на и достойна преклонения. Сердце, в котором господствуют ощущения первого рода, называют добрым сердцем, а человека обладающего им, — добросердечным; что же касается добродетельного человека, действующего согласно принципам, то мы можем с полным правом сказать, что у него благородное сердце, а его самого можем назвать честным. Адаптированные добродетели, однако, в значительной мере сходны с истинными, поскольку содержат в себе чувство непосредственного удовольствия от хороших и благожелательных поступков. Человек добросердечный будет без какого-либо особого намерения, из непосредственной готовности услужить спокойно и вежливо обходиться с вами, а также искренне сочувствовать несчастью другого.
Человек добросердечный будет без какого-либо особого намерения, из непосредственной готовности услужить спокойно и вежливо обходиться с вами, а также искренне сочувствовать несчастью другого.
Так как, однако, такой моральной симпатии еще недостаточно, чтобы побудить косную человеческую природу к общеполезным поступкам, то провидение вложило в нас еще некоторого рода тонкое чувство, заставляющее нас действовать и способное уравновесить более грубое своекорыстие и склонности к низменным наслаждениям, — это есть чувство чести и его следствие — стыд. Мнение других о нашем достоинстве и их суждение о наших поступках есть сильная побудительная причина, заставляющая нас идти на многие жертвы. То, что значительная часть людей не сделала бы из непосредственного порыва добросердечия или из принципов, довольно часто делается только для вида, исходя из иллюзии, весьма полезной, хотя самой по себе и пустой, будто суждение других определяет достоинство нас самих и ценность наших поступков. Все, что происходит из такого побуждения, нисколько не добродетельно, и именно поэтому каждый желающий прослыть таковым тщательно скрывает [от других] побудительный мотив — честолюбие. Эта склонность даже еще менее, чем добросердечие, сродни истинной добродетели, ибо деятельной она может стать не непосредственно — благородством поступков, а лишь их благопристойностью в глазах других людей. Соответственно этому, поскольку чувство чести все же весьма тонкое, я могу назвать то подобие добродетели, которое оно порождает, показным блеском добродетели.
Эта склонность даже еще менее, чем добросердечие, сродни истинной добродетели, ибо деятельной она может стать не непосредственно — благородством поступков, а лишь их благопристойностью в глазах других людей. Соответственно этому, поскольку чувство чести все же весьма тонкое, я могу назвать то подобие добродетели, которое оно порождает, показным блеском добродетели.
Если мы сравним между собой натуры людей по тому, какой из трех упомянутых здесь видов чувства господствует в них и определяет их моральный характер, то мы найдем, что каждое из этих чувств тесно связано с одним из известных нам темпераментов, но при этом чаще всего моральное чувство отсутствует у флегматиков. Дело не в том, будто главный признак в характере этих различных натур зависит от упомянутых черт; ведь более грубое чувство, например своекорыстие, низменное наслаждение и т. п., мы в настоящем сочинении вообще не рассматриваем, а между тем при обычной классификации на подобного рода склонности обращается больше всего внимания. Дело в том, что упомянутые более тонкие моральные ощущения могут легче сочетаться с тем или другим из этих темпераментов, и они действительно большей частью и сочетаются с ними.
Дело в том, что упомянутые более тонкие моральные ощущения могут легче сочетаться с тем или другим из этих темпераментов, и они действительно большей частью и сочетаются с ними.
Если общим основанием всей совокупности наших поступков становятся сокровенное чувство красоты и достоинства человеческой природы, равно как и самообладание и сила духа, то это есть нечто серьезное и не вяжется, конечно, с ветреной веселостью или непостоянством легкомысленного человека. Такое чувство будет даже ближе к нежному благородному чувству грусти, если только эта грусть основывается на том [внутреннем ] страхе, который испытывает ограниченная [по своей природе ] душа, когда она, исполненная великих замыслов, видит предстоящие ей опасности и перед ней встает трудное, но великое усилие над самой собой. В подлинной добродетели, т. е. добродетели, исходящей из принципов, есть поэтому нечто такое, что всего более, пожалуй, созвучно умеренному меланхолическому характеру.
Добросердечие, красота и тонкая чувствительность души, состоящие в том, что в зависимости от того или другого повода проявляют в отдельных случаях сострадание или благосклонность, весьма подвержены смене обстоятельств, и, поскольку подобное движение души не покоится на всеобщем принципе, оно легко видоизменяется, смотря по тому, какой своей стороной обращены [к нам ] объекты. И так как эта склонность ведет к прекрасному, то она, как нам кажется, всего естественнее согласуется с тем душевным складом, который называют сангвиническим, отличающимся непостоянством и жаждой развлечений. В этом темпераменте мы и должны будем искать те привлекательные качества, которые мы назвали адаптированными добродетелями.
И так как эта склонность ведет к прекрасному, то она, как нам кажется, всего естественнее согласуется с тем душевным складом, который называют сангвиническим, отличающимся непостоянством и жаждой развлечений. В этом темпераменте мы и должны будем искать те привлекательные качества, которые мы назвали адаптированными добродетелями.
Чувство чести обычно рассматривалось другими как признак холерического склада души, и на этом основании мы можем для описания такого характера найти моральные следствия этого тонкого чувства, имеющие целью большей частью лишь внешний блеск.
Не бывает людей без всяких признаков более тонких чувств, однако чаще всего они отсутствуют (такое отсутствие соответственно называют бесчувственностью) у людей флегматического темперамента, которому иногда отказывают даже в более грубых побудительных причинах, таких, как жадность к деньгам и т. п., но мы можем во всяком случае за ним оставить эти [влечения ] вместе с другими родственными им склонностями, потому что они вовсе не относятся к этой сфере.
Рассмотрим теперь чувства возвышенного и прекрасного — главным образом с их моральной стороны — несколько подробнее с точки зрения принятой классификации темпераментов.
Тот, чье чувство приобретает меланхолический характер, не потому называется меланхоликом, что, лишенный радостей жизни, он терзается в мрачной тоске, а потому, что его ощущения, если они усиливаются сверх определенной степени или по каким-то причинам принимают ложное направление, легче приводят к такому, а не какому-либо другому состоянию [духа ]. Такой человек больше всего обладает чувством возвышенного. Даже красота, которую он чувствует в такой же степени, должна не только привлекать его, но, поскольку она в то же время вызывает в нем восхищение, также и волновать его. Наслаждение от развлечений имеет у него более серьезный характер, не становясь от этого менее сильным.
Все, что трогает как возвышенное, больше чарует, чем обманчивые прелести прекрасного. Хорошее самочувствие вызывает у меланхолика не столько веселость, сколько удовлетворенность. Он постоянен. Поэтому он свои чувства подчиняет принципам. Его чувства тем меньше подвержены изменениям, чем более общим является принцип, которому они подчиняются, и чем шире, следовательно, то глубокое чувство, которое охватывает чувства, стоящие ниже. Все особые основания для склонностей допускают много исключений и изменений, если они не выведены из подобного высшего основания. Веселый и приветливый Альцест говорит: я люблю и уважаю свою жену, потому что она прекрасна, ласкова и умна. Ну а если болезнь ее обезобразит, возраст сделает ворчливой, то, после того как первое очарование исчезнет, покажется ли она вам умнее, чем всякая другая? Если нет уже основания [для очарования], то что станется со склонностью? А вот благожелательный и степенный Адраст рассуждает так: к этой женщине я буду относиться с любовью и уважением, потому что она моя жена. Этот образ мыслей благороден и великодушен. Пусть отныне меняются временные привлекательные черты, но она все же останется его женой. Благородный мотив остается и не слишком подчинен непостоянству внешних обстоятельств.
Он постоянен. Поэтому он свои чувства подчиняет принципам. Его чувства тем меньше подвержены изменениям, чем более общим является принцип, которому они подчиняются, и чем шире, следовательно, то глубокое чувство, которое охватывает чувства, стоящие ниже. Все особые основания для склонностей допускают много исключений и изменений, если они не выведены из подобного высшего основания. Веселый и приветливый Альцест говорит: я люблю и уважаю свою жену, потому что она прекрасна, ласкова и умна. Ну а если болезнь ее обезобразит, возраст сделает ворчливой, то, после того как первое очарование исчезнет, покажется ли она вам умнее, чем всякая другая? Если нет уже основания [для очарования], то что станется со склонностью? А вот благожелательный и степенный Адраст рассуждает так: к этой женщине я буду относиться с любовью и уважением, потому что она моя жена. Этот образ мыслей благороден и великодушен. Пусть отныне меняются временные привлекательные черты, но она все же останется его женой. Благородный мотив остается и не слишком подчинен непостоянству внешних обстоятельств. Таковы принципы по сравнению с порывами, вызываемыми лишь тем или иным отдельным поводом, и таков человек, руководящийся принципами, в противоположность тем, на кого только случайно находит доброе и любвеобильное настроение. Ну а если бы даже тайный голос его сердца говорил следующее: вот тому человеку я должен помочь, ибо он страдает, не потому, что он мой друг или товарищ или что я считаю его способным ответить благодарностью на мое благодеяние. Теперь не время размышлять и ставить вопросы: он человек, а что случается с человеком, касается и меня. В этом случае поведение его зиждется на высшем основании доброжелательства в человеческой природе и в высшей степени возвышенно как по своей неизменности, так и в силу всеобщности своего применения.
Таковы принципы по сравнению с порывами, вызываемыми лишь тем или иным отдельным поводом, и таков человек, руководящийся принципами, в противоположность тем, на кого только случайно находит доброе и любвеобильное настроение. Ну а если бы даже тайный голос его сердца говорил следующее: вот тому человеку я должен помочь, ибо он страдает, не потому, что он мой друг или товарищ или что я считаю его способным ответить благодарностью на мое благодеяние. Теперь не время размышлять и ставить вопросы: он человек, а что случается с человеком, касается и меня. В этом случае поведение его зиждется на высшем основании доброжелательства в человеческой природе и в высшей степени возвышенно как по своей неизменности, так и в силу всеобщности своего применения.
Я продолжу свои замечания. Человек меланхолического склада мало заботится о том, каково суждение других, что они считают хорошим или истинным; он опирается поэтому только на свое собственное разумение. Так как побудительные мотивы принимают у него характер принципов, то нелегко внушить ему новые мысли; его постоянство иногда превращается в упрямство. На перемену в модах он смотрит с равнодушием, а на их блеск — с презрением. Дружба возвышенна и потому соответствует его чувству. Сам он может, конечно, потерять непостоянного друга, но этот последний не так легко потеряет его. Даже память об угасшей дружбе для него все еще священна. Красноречие прекрасно, молчание, исполненное мыслей, возвышенно. Меланхолик хорошо хранит свои и чужие тайны. Правдивость возвышенна — и он ненавидит ложь и притворство. У него глубокое чувство человеческого достоинства. Он знает себе цену и считает человека существом, заслуживающим уважения. Никакой подлой покорности он не терпит, и его благородство дышит свободой. Все цепи — от позолоченных, которые носят при дворе, до тяжелых железных цепей рабов на галерах — внушают ему отвращение. Он строгий судья себе и другим, и нередко он недоволен как самим собой, так и миром.
На перемену в модах он смотрит с равнодушием, а на их блеск — с презрением. Дружба возвышенна и потому соответствует его чувству. Сам он может, конечно, потерять непостоянного друга, но этот последний не так легко потеряет его. Даже память об угасшей дружбе для него все еще священна. Красноречие прекрасно, молчание, исполненное мыслей, возвышенно. Меланхолик хорошо хранит свои и чужие тайны. Правдивость возвышенна — и он ненавидит ложь и притворство. У него глубокое чувство человеческого достоинства. Он знает себе цену и считает человека существом, заслуживающим уважения. Никакой подлой покорности он не терпит, и его благородство дышит свободой. Все цепи — от позолоченных, которые носят при дворе, до тяжелых железных цепей рабов на галерах — внушают ему отвращение. Он строгий судья себе и другим, и нередко он недоволен как самим собой, так и миром.
Если этот характер портится, то серьезность переходит в мрачность, благоговение — в экзальтацию, любовь к свободе — в восторженность. Оскорбление и несправедливость воспламеняют в нем жажду мести. В таком случае его следует остерегаться. Он пренебрегает опасностью и презирает смерть. Если чувство его извращено и ум его недостаточно ясен, он впадает в причуды. Наущения, видения, искушения. Если рассудок [его] еще более слаб, то им овладевают гримасы. Вещие сны, предчувствия знамения. Ему грозит опасность превратиться в фантазера или стать чудаком.
Оскорбление и несправедливость воспламеняют в нем жажду мести. В таком случае его следует остерегаться. Он пренебрегает опасностью и презирает смерть. Если чувство его извращено и ум его недостаточно ясен, он впадает в причуды. Наущения, видения, искушения. Если рассудок [его] еще более слаб, то им овладевают гримасы. Вещие сны, предчувствия знамения. Ему грозит опасность превратиться в фантазера или стать чудаком.
У человека сангвинического склада души преобладает чувство прекрасного. Его радости поэтому полны веселья и жизни. Если он не весел, то он уже в дурном настроении, а пребывание в тиши мало ему знакомо. Разнообразие прекрасно, и он любит перемены. Он ищет радости в себе и вокруг себя и веселит других; он хороший собеседник. У него много моральной симпатии. Радость других доставляет ему удовольствие, а их страдание делает его мягкосердечным. Его нравственное чувство прекрасно, но лишено принципов и всегда зависит непосредственно от данного впечатления, производимого на него [окружающими ] предметами. Он всем людям друг или, что то же самое, в сущности никому не друг, хотя добросердечен и благожелателен. Он не притворяется. Сегодня он покорит вас своей любезностью и хорошими манерами, завтра, если вы больны или вас постигло несчастье, он будет вам искренне и непритворно сочувствовать, но постарается незаметно исчезнуть, пока обстоятельства не переменятся. Он никогда не должен быть судьей. Законы обычно кажутся ему слишком строгими, и он дает подкупить себя слезами. Из него святой не получится; он никогда не бывает по-настоящему добрым и по-настоящему злым. Он часто предается беспутству и бывает безнравствен, [впрочем] больше из услужливости, чем по склонности. Он щедр и склонен к благотворительности, но забывает о своих долгах; он, правда, довольно восприимчив к добру, но мало — к справедливости. Никто не имеет такого хорошего мнения о собственном сердце, как он. И хотя бы вы и не очень уважали его, вы все же не можете его не любить. Если его характер портится, он становится пошлым, мелочным и ребячливым.
Он всем людям друг или, что то же самое, в сущности никому не друг, хотя добросердечен и благожелателен. Он не притворяется. Сегодня он покорит вас своей любезностью и хорошими манерами, завтра, если вы больны или вас постигло несчастье, он будет вам искренне и непритворно сочувствовать, но постарается незаметно исчезнуть, пока обстоятельства не переменятся. Он никогда не должен быть судьей. Законы обычно кажутся ему слишком строгими, и он дает подкупить себя слезами. Из него святой не получится; он никогда не бывает по-настоящему добрым и по-настоящему злым. Он часто предается беспутству и бывает безнравствен, [впрочем] больше из услужливости, чем по склонности. Он щедр и склонен к благотворительности, но забывает о своих долгах; он, правда, довольно восприимчив к добру, но мало — к справедливости. Никто не имеет такого хорошего мнения о собственном сердце, как он. И хотя бы вы и не очень уважали его, вы все же не можете его не любить. Если его характер портится, он становится пошлым, мелочным и ребячливым. Если с возрастом не убавится его живость и не прибавится рассудительности, то ему грозит опасность сделаться старым фатом.
Если с возрастом не убавится его живость и не прибавится рассудительности, то ему грозит опасность сделаться старым фатом.
У человека, которого считают холериком, преобладает чувство того рода возвышенного, которое можно назвать великолепием. Собственно говоря, это только обманчивый блеск возвышенного и лишь яркая окраска, скрывающая внутреннее содержание вещи или лица, быть может, плохое и пошлое, — окраска, своей внешностью вводящая в заблуждение и умиляющая. Подобно тому как здание, на котором изображены как бы высеченные камни, производит столь же благородное впечатление, как если бы оно действительно было сложено из таких камней, а прилепленные карнизы и пилястры создают видимость прочности, хотя они не имеют опоры и ничего не поддерживают, точно так же блистают и показные добродетели, мишура мудрости и приукрашенные заслуги.
Холерик судит о собственном значении и значении своих дел и поступков по тому, как они бросаются в глаза. К внутреннему качеству и движущим причинам, содержащимся в самом предмете, он равнодушен, его не греет искренняя доброжелательность и не трогает уважение (более того, счастливым он считает себя лишь тогда, когда предполагает, что за такового его признают другие). Его поведение неестественно. Он должен уметь становиться на самые различные точки зрения, чтобы с позиций разных наблюдателей судить о своем положении: ведь ему важно не то, что он есть, а то, чем он кажется. Поэтому он должен хорошо знать, как его поведение действует на общепринятые вкусы и каковы впечатления, которые он создает о себе у других. Так как в этой хитрой внимательности он должен непременно оставаться хладнокровным и не давать ослепить себя любовью, состраданием и отзывчивостью, то он сможет избежать также и многих глупостей, которые совершает сангвиник, находящийся во власти непосредственных чувств, и многих неприятностей, которые испытывает тот же сангвиник. Поэтому холерик обычно кажется более рассудительным, чем он есть на самом деле. Его благорасположение есть [в сущности] вежливость, проявляемое им уважение — церемония, его любовь — надуманная лесть. Он всегда полон самим собой, принимает ли он вид возлюбленного или друга (в действительности он ни тот, ни другой). Он старается блистать, следуя моде; но так как все в нем неестественно и деланно, то он остается неуклюжим и неповоротливым.
Его поведение неестественно. Он должен уметь становиться на самые различные точки зрения, чтобы с позиций разных наблюдателей судить о своем положении: ведь ему важно не то, что он есть, а то, чем он кажется. Поэтому он должен хорошо знать, как его поведение действует на общепринятые вкусы и каковы впечатления, которые он создает о себе у других. Так как в этой хитрой внимательности он должен непременно оставаться хладнокровным и не давать ослепить себя любовью, состраданием и отзывчивостью, то он сможет избежать также и многих глупостей, которые совершает сангвиник, находящийся во власти непосредственных чувств, и многих неприятностей, которые испытывает тот же сангвиник. Поэтому холерик обычно кажется более рассудительным, чем он есть на самом деле. Его благорасположение есть [в сущности] вежливость, проявляемое им уважение — церемония, его любовь — надуманная лесть. Он всегда полон самим собой, принимает ли он вид возлюбленного или друга (в действительности он ни тот, ни другой). Он старается блистать, следуя моде; но так как все в нем неестественно и деланно, то он остается неуклюжим и неповоротливым. Он действует по принципам в гораздо большей мере, чем сангвиник, побуждаемый лишь случайными впечатлениями; но это принципы не добродетели, а чести; он лишен чувства красоты или достоинства поступков и считается лишь с мнением окружающих. Впрочем, так как поведение его, поскольку не обращают внимания на то, чем оно вызвано, почти столь же общеполезно, как и сама добродетель, то обыкновенная публика его столь же глубоко уважает, как и человека добродетельного. Однако от более проницательных глаз он тщательно скрывается, потому что хорошо знает, что, если раскроются тайные пружины его честолюбия, он потеряет всякое к себе уважение. Поэтому он весьма склонен притворяться, в религии лицемерен, в обращении льстив, в политических делах непостоянен. Он охотно раболепствует перед великими мира сего, дабы тем самым стать тираном по отношению к нижестоящим. Наивность, эта благородная или прекрасная простота, носящая на себе печать природы, а не искусства, совершенно чужда ему. Поэтому, когда его вкус портится, ложный блеск его становится кричащим, т.
Он действует по принципам в гораздо большей мере, чем сангвиник, побуждаемый лишь случайными впечатлениями; но это принципы не добродетели, а чести; он лишен чувства красоты или достоинства поступков и считается лишь с мнением окружающих. Впрочем, так как поведение его, поскольку не обращают внимания на то, чем оно вызвано, почти столь же общеполезно, как и сама добродетель, то обыкновенная публика его столь же глубоко уважает, как и человека добродетельного. Однако от более проницательных глаз он тщательно скрывается, потому что хорошо знает, что, если раскроются тайные пружины его честолюбия, он потеряет всякое к себе уважение. Поэтому он весьма склонен притворяться, в религии лицемерен, в обращении льстив, в политических делах непостоянен. Он охотно раболепствует перед великими мира сего, дабы тем самым стать тираном по отношению к нижестоящим. Наивность, эта благородная или прекрасная простота, носящая на себе печать природы, а не искусства, совершенно чужда ему. Поэтому, когда его вкус портится, ложный блеск его становится кричащим, т. е. отвратительно ярким. Тогда и в стиле его, и в наряде все утрированно — своего рода гримасы, представляющие собой по отношению к великолепному то же, что причудливое или чудаческое по отношению к серьезно-возвышенному. В случае оскорбления он прибегает к дуэли или судебному процессу, а в гражданских делах ссылается на предков, привилегии и чины. Покуда он только тщеславен, т. е. честолюбив, и старается попадаться на глаза, он еще терпим, но если он чванлив, не имея решительно никаких достоинств и талантов, то он является тем, кем меньше всего хотел бы прослыть, т. е. глупцом.
е. отвратительно ярким. Тогда и в стиле его, и в наряде все утрированно — своего рода гримасы, представляющие собой по отношению к великолепному то же, что причудливое или чудаческое по отношению к серьезно-возвышенному. В случае оскорбления он прибегает к дуэли или судебному процессу, а в гражданских делах ссылается на предков, привилегии и чины. Покуда он только тщеславен, т. е. честолюбив, и старается попадаться на глаза, он еще терпим, но если он чванлив, не имея решительно никаких достоинств и талантов, то он является тем, кем меньше всего хотел бы прослыть, т. е. глупцом.
Так как в флегматическом сочетании никакие ингредиенты возвышенного или прекрасного обычно не встречаются в особенно заметной степени, то этот душевный склад и не станет предметом наших рассуждений.
Какими бы ни были те утонченные чувства, о которых мы до сих пор говорили, будут ли они чувствами возвышенного или прекрасного, они имеют между собой то общее, что в суждении тех, кто не расположен к чувству возвышенного или прекрасного, они всегда представляются извращенными и нелепыми. Человек спокойный и преисполненный корыстолюбивых устремлений вообще не имеет, так сказать, органов для восприятия благородных черт в стихотворении или добродетели героя: он охотнее читает Робинзона, чем Грандисона, а Катона считает упрямым глупцом. Точно так же лицам несколько более серьезного склада кажется пошлым то, что других привлекает, и веселая наивность пасторали кажется им нелепой и ребяческой. И даже если душевный склад [таких людей ] и не совсем лишен более тонкого гармонического чувства, то степень восприимчивости его все же весьма различна, и мы видим, что один считает благородным и благопристойным то, что другому кажется хотя и значительным, но причудливым. При [наблюдении ] неморальных явлений нам представляется возможность подметить кое-что в чувстве другого человека, и это дает нам основание с довольно значительной степенью вероятности сделать вывод также и о более высоких свойствах его характера, и даже о свойствах его души. Тот, кто скучает, слушая прекрасную музыку, дает немало оснований предполагать, что красоты стиля и нежные очарования любви будут невластны над ним.
Человек спокойный и преисполненный корыстолюбивых устремлений вообще не имеет, так сказать, органов для восприятия благородных черт в стихотворении или добродетели героя: он охотнее читает Робинзона, чем Грандисона, а Катона считает упрямым глупцом. Точно так же лицам несколько более серьезного склада кажется пошлым то, что других привлекает, и веселая наивность пасторали кажется им нелепой и ребяческой. И даже если душевный склад [таких людей ] и не совсем лишен более тонкого гармонического чувства, то степень восприимчивости его все же весьма различна, и мы видим, что один считает благородным и благопристойным то, что другому кажется хотя и значительным, но причудливым. При [наблюдении ] неморальных явлений нам представляется возможность подметить кое-что в чувстве другого человека, и это дает нам основание с довольно значительной степенью вероятности сделать вывод также и о более высоких свойствах его характера, и даже о свойствах его души. Тот, кто скучает, слушая прекрасную музыку, дает немало оснований предполагать, что красоты стиля и нежные очарования любви будут невластны над ним.
Существует какая-то любовь к безделушкам (esprit des bagatelles), свидетельствующая о некотором тонком чувстве, но обращенном как раз на то, что противоположно возвышенному. [Сюда относятся]: вкус к чему-то такому, что требует большого искусства и труда; стихи, которые можно читать слева направо и наоборот, загадки, часы в кольцах, очень тонкие цепочки и т. п. Вкус ко всему, что точно вымерено, педантично расположено по полочкам, хотя и без всякой пользы, например книги, со вкусом и скрупулезностью подобранные в длинные ряды, стоящие в книжных шкафах, и пустая голова, которая глядит на них и не нарадуется; комнаты, разукрашенные наподобие калейдоскопов и необычайно чисто вымытые, и тут же негостеприимный и ворчливый хозяин, в них обитающий. Вкус ко всему, что редко, как бы малоценно ни было оно во всех других отношениях: лампа Эпиктета, перчатка короля Карла XII, в известной мере также страсть к собиранию монет. Таких лиц можно не без основания подозревать в том, что в области наук они окажутся кропателями и чудаками, а в сфере нравственности — бесчувственными ко всему, что без принуждения прекрасно и благородно.
Было бы, правда, с нашей стороны несправедливо, если бы от человека, не видящего ценности и красоты в том, что нас трогает и привлекает, отделались заявлением, что он этого не понимает. Дело здесь не столько в том, что усматривается умом, сколько в том, что воспринимается чувством. И тем не менее способности души столь связаны между собой, что по проявлениям чувств можно очень часто судить о способностях ума. В самом деле, тому, кто обладает многими интеллектуальными достоинствами, эти способности были бы ни к чему, если бы он в то же время не имел сильного чувства того, что истинно благородно или прекрасно, поскольку именно такое чувство должно быть побудительной причиной надлежащего и правильного применения упомянутых умственных дарований.
Мы видим также, что некоторую тонкость чувства ставят человеку в заслугу. Когда человек может из мяса или пирога устроить себе хороший обед или когда он великолепно спит, то все это считается признаком хорошего желудка, но не его заслугой.
Напротив, тот, кто частью своего обеда пожертвует ради музыки, или, рассматривая картину, может погрузиться в состояние приятной рассеянности, или с удовольствием читает остроумные вещи, хотя бы это были всего только поэтические безделки, — тот в глазах почти каждого кажется человеком более тонким, о нем имеют более благоприятное и более лестное мнение.
Принято считать полезным только то, что удовлетворяет нашим более грубым чувствам, что может дать нам вдоволь еды и питья, великолепную одежду и домашнюю утварь, а также щедрые пиры, хотя я не вижу, почему бы и все, чего вообще так горячо желают, не отнести к числу полезных вещей. Но как бы там ни было, с теми, кто находится во власти своекорыстия, с этой точки зрения никогда не следует рассуждать о вещах более тонкого вкуса. В этом отношении курица, конечно, лучше попугая, печной горшок полезнее фарфоровой посуды, все проницательные умы мира ничего не стоят по сравнению с крестьянином, а что касается попытки определить расстояние до неподвижных звезд, то с этим можно повременить, пока не придут к согласию, как лучше всего пахать плугом. Глупо, однако, пускаться в подобного рода спор там, где невозможно воспринимать одинаково, поскольку и чувства не одинаковы. И тем не менее человек самых грубых и низменных чувств способен понять, что прелести и приятности жизни, без которых как будто всего легче можно обойтись, привлекают наше самое пристальное внимание и что, если исключить их из числа стимулов, у нас осталось бы мало побудительных причин для столь разнообразной деятельности. Равным образом никто не настолько груб, чтобы не почувствовать, что нравственный поступок, по крайней мере совершенный другим лицом, тем больше волнует, чем дальше он от своекорыстия и чем больше выступают в нем упомянутые благородные побуждения.
Глупо, однако, пускаться в подобного рода спор там, где невозможно воспринимать одинаково, поскольку и чувства не одинаковы. И тем не менее человек самых грубых и низменных чувств способен понять, что прелести и приятности жизни, без которых как будто всего легче можно обойтись, привлекают наше самое пристальное внимание и что, если исключить их из числа стимулов, у нас осталось бы мало побудительных причин для столь разнообразной деятельности. Равным образом никто не настолько груб, чтобы не почувствовать, что нравственный поступок, по крайней мере совершенный другим лицом, тем больше волнует, чем дальше он от своекорыстия и чем больше выступают в нем упомянутые благородные побуждения.
Когда я наблюдаю у людей то благородные, то слабые стороны, я упрекаю самого себя в том, что не в силах найти точку зрения, с которой эти бьющие в глаза различия раскрывали бы перед нами великую картину всей человеческой природы в волнующем нас виде. Ибо я охотно соглашусь, что, поскольку речь идет о плане великой природы, такие причудливые состояния могут найти только благородное выражение, хотя люди слишком близоруки, чтобы обозреть их в этом состоянии. Все же, бросая на это беглый взгляд, можно, я полагаю, заметить следующее. Людей, поступающих согласно принципам, совсем немного, что, впрочем, очень хорошо, так как легко может случиться, что в этих принципах окажется ошибка, и тогда вред, отсюда проистекающий, распространяется тем дальше, чем более общим будет принцип и чем более непреклонным лицо, которое им руководствуется. Людей, действующих из добрых побуждений, гораздо больше, и это превосходно, хотя и нельзя каждый отдельный поступок ставить в особую заслугу данному лицу. Эти добродетельные инстинкты, конечно, могут иногда отсутствовать, однако в общем они так же осуществляют великую цель природы, как и все другие инстинкты, с такой правильностью движущие животный мир. Тех, кто неизменно имеет перед глазами свое любимое Я как единственную точку приложения своих усилий и добивается того, чтобы все вращалось вокруг своекорыстия как великой оси, — таких людей имеется всего больше. Нет ничего более полезного, чем данное обстоятельство; ведь эти люди наиболее усердны, наиболее аккуратны и осмотрительны.
Все же, бросая на это беглый взгляд, можно, я полагаю, заметить следующее. Людей, поступающих согласно принципам, совсем немного, что, впрочем, очень хорошо, так как легко может случиться, что в этих принципах окажется ошибка, и тогда вред, отсюда проистекающий, распространяется тем дальше, чем более общим будет принцип и чем более непреклонным лицо, которое им руководствуется. Людей, действующих из добрых побуждений, гораздо больше, и это превосходно, хотя и нельзя каждый отдельный поступок ставить в особую заслугу данному лицу. Эти добродетельные инстинкты, конечно, могут иногда отсутствовать, однако в общем они так же осуществляют великую цель природы, как и все другие инстинкты, с такой правильностью движущие животный мир. Тех, кто неизменно имеет перед глазами свое любимое Я как единственную точку приложения своих усилий и добивается того, чтобы все вращалось вокруг своекорыстия как великой оси, — таких людей имеется всего больше. Нет ничего более полезного, чем данное обстоятельство; ведь эти люди наиболее усердны, наиболее аккуратны и осмотрительны.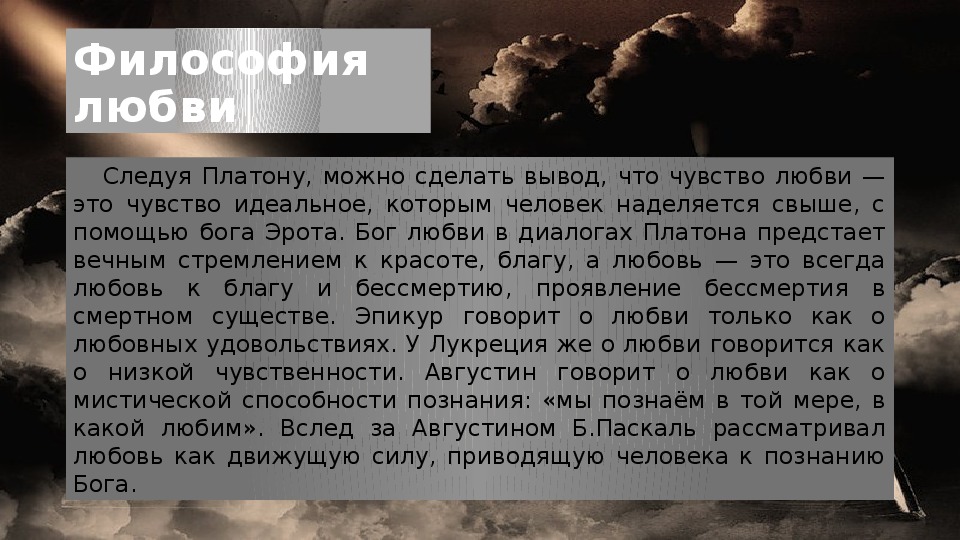 Всему они, сами того не желая, придают прочность и постоянство; тем самым они служат общей пользе, вызывая к жизни необходимые потребности и создавая ту основу, на которой более благородные души способствуют распространению красоты и гармонии. Наконец, в сердцах всех людей, хотя и не в одинаковой мере, укрепилось честолюбие, что должно придать всему целому поразительную красоту. В самом деле, хотя тщеславие — глупая иллюзия, но, если оно становится правилом, которому подчиняют все другие склонности, оно как сопутствующее побуждение чрезвычайно ценно. В самом деле, каждый совершает на великой арене [жизни] поступки сообразно со своими основными склонностями, но в то же время какое-то тайное побуждение заставляет его мысленно смотреть на себя со стороны, чтобы судить о благообразии своего поведения, каково оно и каким оно представляется в глазах публики. Благодаря этому обстоятельству различные группы [людей ] составляют картину превосходной выразительности, где среди большого многообразия проявляется единство и вся моральная природа в целом проникнута красотой и достоинством.
Всему они, сами того не желая, придают прочность и постоянство; тем самым они служат общей пользе, вызывая к жизни необходимые потребности и создавая ту основу, на которой более благородные души способствуют распространению красоты и гармонии. Наконец, в сердцах всех людей, хотя и не в одинаковой мере, укрепилось честолюбие, что должно придать всему целому поразительную красоту. В самом деле, хотя тщеславие — глупая иллюзия, но, если оно становится правилом, которому подчиняют все другие склонности, оно как сопутствующее побуждение чрезвычайно ценно. В самом деле, каждый совершает на великой арене [жизни] поступки сообразно со своими основными склонностями, но в то же время какое-то тайное побуждение заставляет его мысленно смотреть на себя со стороны, чтобы судить о благообразии своего поведения, каково оно и каким оно представляется в глазах публики. Благодаря этому обстоятельству различные группы [людей ] составляют картину превосходной выразительности, где среди большого многообразия проявляется единство и вся моральная природа в целом проникнута красотой и достоинством.
это, когда… — Сайт КЭПЛ
Vivat, лицей! 1998 Выпуск 6(17) февраль
Невозможно дать точного определения любви, потому что каждый человек понимает и видит это чувство по-своему. Но, несмотря на это, чаще всего в любви понимают что-то возвышенное, неземное, бескорыстное… Любовь, безусловно, — чувство довольно возвышенное, но считаю что отнюдь не бескорыстное… Чтобы понять мою мысль стоит разобраться в физическом, если это слово здесь употребимо, смысле любви.
Как известно, любовь приходит внезапно и практически независимо от желания человека: “Любовь зла — полюбишь и козла”, — гласит известная поговорка, но почему вдруг появляется это прекрасное влечение к другому существу, откуда оно возникает?
По-моему любовь возникает очень просто и можно сказать банально: от души одного человека отрывается маленький кусочек и переносится к будущему предмету обожания. Скорее всего выбор этот осуществляется абсолютно случайно, но, если хотите, можно приписать его судьбе. Но так или иначе отделение души объясняет внезапность и случайность возникновения чувства. В этот момент человек еще не знает, что он влюбился, но у него появляется какое-то странное ощущение, как будто кто-то щекочет душу. В начале это ощущение “щекотности” очень приятно и ласково, оно делает человека счастливым…
Но так или иначе отделение души объясняет внезапность и случайность возникновения чувства. В этот момент человек еще не знает, что он влюбился, но у него появляется какое-то странное ощущение, как будто кто-то щекочет душу. В начале это ощущение “щекотности” очень приятно и ласково, оно делает человека счастливым…
Но душа требует возвращения оторванной частицы, и поэтому человек начинает что-то искать (сам он конечно же не понимает этого) и вот в один прекрасный момент он находит это: он видит перед собой прекрасно- нежное личико, смотрит в какие-то не совсем земные нежно-голубые глаза, которые в тени вьющихся светлых волос, мягко ложащихся на плечи, кажутся серо-зеленоватыми, он слышит ласковый голос: “Привет, Дюш…”- а сам только стоит, хлопая глазами. А в это время его душа поет и искрится от радости — она нашла свою потерянную частичку. И в этот момент человек начинает физически ощущать свою душу, чувствовать как она рвется наружу, а именно к этой девушке из старшего класса. Он начинает тянуться к ней, стараться встречаться с ней почаще…
Он начинает тянуться к ней, стараться встречаться с ней почаще…
А его душа просто старается вернуть “похищенную” частичку, для этого она заставляет человека сделать все, чтобы она посмотрела на него и сказала: “Ты знаешь, я тоже люблю тебя, “- ведь это будет означать, то что ее душа отдала свою частичку и былое равновесие и счастье восстановлено. Но теперь, уже для поддержания этого равновесия , эти два человека должны быть вместе. И они вместе — они счастливы.
Но случается и так, что все старания человека проходят даром, что душа его обожаемой уже отдала “частичку любви” кому-то другому. В таком случае “любовная частичка” человека просто исчезает, и душа не получает ничего взамен, тогда это самое ощущение щекотности постепенно перерастает в то, что называется примерно так: “Кошки на душе скребут, “-да так скребут, что “соседу на Камчатке отдает”.
И вот душа уже понимает, что вряд ли получит что-нибудь назад. Естественно, она не довольна, и она заставляет идти человека на необдуманные, глупые поступки, доходящие иногда до убийства (а как еще объяснить убийства по любви, но без ревности?). Но ничего не помогает и душа смиряется, но не прощает похитительницу (поэтому не сложившаяся любовь часто перерастает в ненависть). Но хоть люби, хоть ненавидь, а потерянного не воротишь, и душа на какое-то время пустеет, а человек впадает в депрессию. Если во время депрессии душа не убьет человека, то эту рану затянет время, а человек вернется к нормальной жизни, пока маленькая частичка души вновь не отделится и не полетит…
Но ничего не помогает и душа смиряется, но не прощает похитительницу (поэтому не сложившаяся любовь часто перерастает в ненависть). Но хоть люби, хоть ненавидь, а потерянного не воротишь, и душа на какое-то время пустеет, а человек впадает в депрессию. Если во время депрессии душа не убьет человека, то эту рану затянет время, а человек вернется к нормальной жизни, пока маленькая частичка души вновь не отделится и не полетит…
Бояринцев А.11б
Ваша оценка: Нет
Истоки и смысл любви – Страница 2 из 5 – ОБЩИЙ КУРС ФИЛОСОФИИ. Часть II – Философия. Основные понятия о философии
Любовь как источник счастья.
Любовью счастлив человек, — так считали еще мыслители древности. В Средние века Августин Аврелий уверял, что достойным человеком может считаться только тот, кто способен любить. Любовь, как и разум, — это критерий уровня культурного саморазвития человека. Н.А. Бердяев был убежден, что любовью может стать только такое чувство, которое ощущается как высокая воля (выше человеческой), соединяющая любящих, когда происходит «выход личности из себя в другую личность» [8]. Любовь, будучи наиважнейшей составной частью человеческого духа осознается личностью как особая привилегия в жизни. Сам факт любви принципиально отличает человека от всех других живых существ на Земле.
Любовь, будучи наиважнейшей составной частью человеческого духа осознается личностью как особая привилегия в жизни. Сам факт любви принципиально отличает человека от всех других живых существ на Земле.
Любовь возникла в условиях определенной степени зрелости социальной культуры общения людей. Затем она стала критерием развитости человеческого индивида. Не следует привязанность животного отождествлять с любовью. Любовь — это не только особо возвышенное чувство человека по отношению к кому-либо или чему-либо, но и осознание своей ответственности перед объектом этого чувства.
Любовь — привходящая извне энергетика. Иначе говоря, человек является не субъектом любви, а ее объектом, то есть не сам индивид приходит к любви, а любовь приходит к нему, охватывая всю его самость, проникая в него, обогащая его духовной энергией, вырывая из серых, монотонных буден жизни.
Любовь приобрела неоднозначное отношение к себе различных религий, морали, искусства и философии. Как философско-этическая категория она стала показателем высшего морального образца человеческого общения, межличностных связей и отношений, к тому же не обычных, а особо чувственных и прекрасных, дающих человеку истинное наслаждение. Любовь
Любовь
— это и показатель, и мера духовности людей. Безусловно, она могла бы быть обесценена, выхолощена бездуховностью, бездушностью, но вряд ли это когда-либо произойдет, ибо человек изначально известен как существо духовное. Библейская заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» относится к V в. до н.э. Она выражает влечение людей друг к другу, особое духовное состояние человека, его стремление к общению, близости, слиянию.
Многие мыслители прошлого и настоящего справедливо указывали на уникальную роль любви в качественном изменении личности человека. Более того, они полагали, что только любовь делает индивида высоконравственной личностью. Только любя, он становится морально более возвышенным. В нем укрепляются гуманные начала и меняется характер социально-нравственных идеалов.
С течением времени поднималось на новые ступени этическое и эстетическое развитие, соответственно усложнялись формы и виды любви. Менялись и трактовки этого удивительного феномена особых человеческих связей и отношений.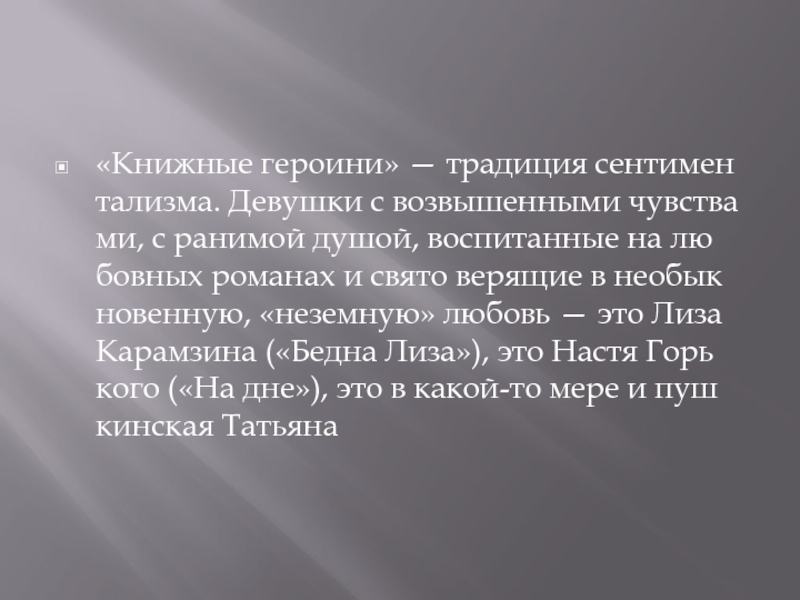 Отметим, что любовную ментальность можно понять, только философски оценив историческую ретроспективу ее саморазвития. О плотской любви было, к примеру, известно с самых древних времен, хотя бы из древнегреческих мифов. А в эпоху греческой классической философии уже зарождались первые теории духовной любви. Именно тогда появляется ощущение духовной исключительности любви, ее абсолютной несравнимости с другими человеческими чувствами. У Эмпедокла любовь рождает гармонию и красоту. А Платон увидел в ней божественную силу, помогающую индивиду преодолевать свое земное несовершенство. Любовь делает человека духовно возвышенным, полагал философ. Платон трактует любовные переживания как проявление особой энергии, идущей из Космоса. Он понимает под феноменом любви напряженное и бесконечное стремление человека к возвышенному.
Отметим, что любовную ментальность можно понять, только философски оценив историческую ретроспективу ее саморазвития. О плотской любви было, к примеру, известно с самых древних времен, хотя бы из древнегреческих мифов. А в эпоху греческой классической философии уже зарождались первые теории духовной любви. Именно тогда появляется ощущение духовной исключительности любви, ее абсолютной несравнимости с другими человеческими чувствами. У Эмпедокла любовь рождает гармонию и красоту. А Платон увидел в ней божественную силу, помогающую индивиду преодолевать свое земное несовершенство. Любовь делает человека духовно возвышенным, полагал философ. Платон трактует любовные переживания как проявление особой энергии, идущей из Космоса. Он понимает под феноменом любви напряженное и бесконечное стремление человека к возвышенному.
Любовь имманентно задается неким всемирным тяготением к добру и красоте. Причем добро и красота в той же мере являются результатом любовного стремления, в какой сами они могут выступать его источником. В силу этого обстоятельства все любовные переживания лежат и в основе космического чувства удовольствия. Концепция любви у Платона стала первой попыткой философски осмыслить сущность «чистой» любви, понять и оценить то, что отличает эту сторону человеческой жизни от физиологического инстинкта, простого чувственного удовольствия. В античности, как известно, различали несколько видов любви. Но прежде всего ценили силу и красоту эроса. Обожествленный эрос — это внутреннее стремление человека к красоте и силе. Эротическая любовь одновременно страстная и особо восторженная. Она, как верховная сила, владеет и управляет людьми и человеческими судьбами. Совершенно к иному смысловому порядку относится филос — духовная любовь. У этого вида любви очень больший спектр смыслов и значений: любовь к мифам, знаниям, мудрости, искусствам, а также братская любовь. Кроме эроса и филоса, эллины выделяли и другие виды любви: агапэ — любовь нежная, трогательная как выражение милосердия и сострадания; филотес — дружба, привязанность; адаре — разумная любовь, уважительное товарищество и др.
В силу этого обстоятельства все любовные переживания лежат и в основе космического чувства удовольствия. Концепция любви у Платона стала первой попыткой философски осмыслить сущность «чистой» любви, понять и оценить то, что отличает эту сторону человеческой жизни от физиологического инстинкта, простого чувственного удовольствия. В античности, как известно, различали несколько видов любви. Но прежде всего ценили силу и красоту эроса. Обожествленный эрос — это внутреннее стремление человека к красоте и силе. Эротическая любовь одновременно страстная и особо восторженная. Она, как верховная сила, владеет и управляет людьми и человеческими судьбами. Совершенно к иному смысловому порядку относится филос — духовная любовь. У этого вида любви очень больший спектр смыслов и значений: любовь к мифам, знаниям, мудрости, искусствам, а также братская любовь. Кроме эроса и филоса, эллины выделяли и другие виды любви: агапэ — любовь нежная, трогательная как выражение милосердия и сострадания; филотес — дружба, привязанность; адаре — разумная любовь, уважительное товарищество и др. Все эти виды любви существуют не только раздельно, но и вместе, дополняя друг друга. К примеру, в эротической любви проявляется как страсть, так и нежность, как привязанность, так и сострадание.
Все эти виды любви существуют не только раздельно, но и вместе, дополняя друг друга. К примеру, в эротической любви проявляется как страсть, так и нежность, как привязанность, так и сострадание.
В Древней Греции, а позднее и в Риме любовь ценилась людьми очень высоко за ее нравственное содержание и гуманистическую направленность. Греки описывали ее как внутренний голос человеческой природы, призывающий к гармонии, единству, целостности, полноте, совершенству, согласию и т.д. Платон писал: «Ведь тому, чем надлежит всегда руководствоваться людям, желающим прожить свою жизнь безупречно, никакая родня, никакие почести, никакое богатство, да и вообще ничто на свете не научит их лучше, чем любовь» [9]. Тема любви пронизывает произведения философа настолько, что едва ли можно найти хоть один диалог, где бы она так или иначе не затрагивалась. Любовная аналитика, пожалуй, самая впечатляющая часть всего платоновского философского наследия. Любовь, считает мыслитель, не есть ни прекрасное, ни благое, это
— жажда красоты и добра, расширяющих «смысловое пространство» личности.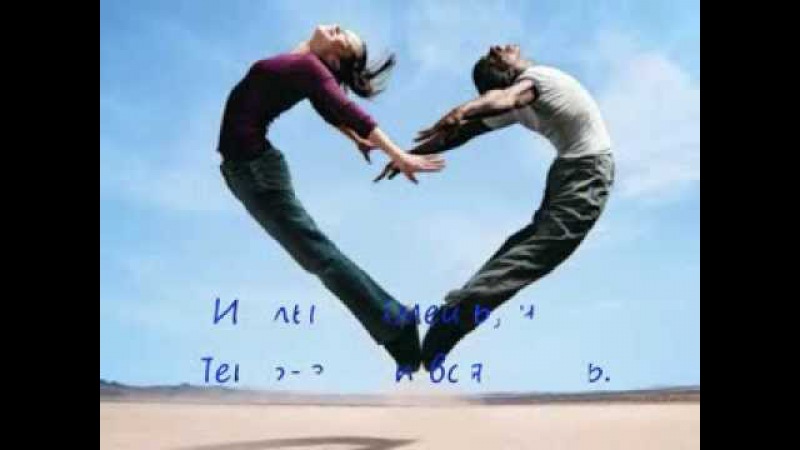 То, что в расхожем смысле слова люди называют любовью, есть лишь частичка истинной Любви, суть которой состоит в стремлении к прекрасному, мудрости, счастью, бессмертию. Платоновская любовь — это чувственная ностальгия по Абсолюту, запредельное влечение к чему-то метаэмпирическому — силе, возвращающей людей к изначальному бытию среди Богов, где правят Разум, Добро, Красота и Справедливость. Любовь как феноменальное качество человеческой души является их связующим звеном.
То, что в расхожем смысле слова люди называют любовью, есть лишь частичка истинной Любви, суть которой состоит в стремлении к прекрасному, мудрости, счастью, бессмертию. Платоновская любовь — это чувственная ностальгия по Абсолюту, запредельное влечение к чему-то метаэмпирическому — силе, возвращающей людей к изначальному бытию среди Богов, где правят Разум, Добро, Красота и Справедливость. Любовь как феноменальное качество человеческой души является их связующим звеном.
Античные мыслители глубоко и тщательно разрабатывали философию любви, приняв за исходное начало любовь эротическую. Возникает следующая картина: побудительная сила эроса влечет к прекрасному, совершенному и в сфере этого совершенства побуждает людей творить по образцам Красоты и Добра. Иными словами, эротическая любовь выступает движущей силой творчества, в том числе научного, медицинского, художественного, и приобщает человека к вечности. Таким образом, представители дохристианской духовной культуры придавали любви качество одного из важнейших начал человеческого бытия, укрепляющего дух индивида и способствующего становлению творческой личности.
Совсем иной смысл приобрело понятие любви в библейской трактовке. В христианстве она предполагает самопожертвование, милосердие и сострадание к людям. Но главное для христианина — любовь к Богу. Истинная человеческая любовь есть стремление следовать в жизни божьему завету. Страстной проповедью любви буквально пронизано все христианское учение. Тексты Нового завета воспевают всепоглощающую любовь к Богу, его творениям. Отцы церкви на протяжении всей истории христианства проповедовали любовь как божественный завет: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, — говорится в послании апостола Павла (первого истинно христианского философа), — то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто» (I Кор., 13, 1-2). Любовь к ближнему в Новом завете — необходимое условие любви к Богу. «Ближний» — это некое подобие Бога.
Августин Аврелий в духе Сократа и Платона объяснял, что есть два вида любви: земная (плотская) и святая, возносящая людей до небесных высот. Августин при этом указывал, что любовь должна составлять основу жизни всех людей и служить им главным стимулом в познании смысла бытия и первопричины мира. Раннехристианские, а затем византийские мыслители усматривали в любви важнейший универсальный творческий принцип существования Вселенной, на котором основывается все ее духовное и материальное бытие. По их мнению, только любовь очищает дух человека от ложных и низменных пристрастий и открывает духовные сокровища в нем самом, в глубинах его сердца. Чуть позже, уже у византийских гуманистов Х-ХII веков, рассматривалось стремление к достижению любовного совершенства в соединении человека с божественным началом. В противоположность античному эросу и раннехристианскому космизму византийцы выработали принципиальное представление о любви как каритасе — сострадании, милосердии, жалости. При этом Церковь проклинала плотскую любовь, но благословляла ее последствие — деторождение. Резко осуждая такую любовь как нечто греховное, представители Церкви стремились заменить ее чисто духовным видом — «вхождением в Бога».
Августин при этом указывал, что любовь должна составлять основу жизни всех людей и служить им главным стимулом в познании смысла бытия и первопричины мира. Раннехристианские, а затем византийские мыслители усматривали в любви важнейший универсальный творческий принцип существования Вселенной, на котором основывается все ее духовное и материальное бытие. По их мнению, только любовь очищает дух человека от ложных и низменных пристрастий и открывает духовные сокровища в нем самом, в глубинах его сердца. Чуть позже, уже у византийских гуманистов Х-ХII веков, рассматривалось стремление к достижению любовного совершенства в соединении человека с божественным началом. В противоположность античному эросу и раннехристианскому космизму византийцы выработали принципиальное представление о любви как каритасе — сострадании, милосердии, жалости. При этом Церковь проклинала плотскую любовь, но благословляла ее последствие — деторождение. Резко осуждая такую любовь как нечто греховное, представители Церкви стремились заменить ее чисто духовным видом — «вхождением в Бога». Это было итогом христианского учения о любви.
Это было итогом христианского учения о любви.
В эпоху Возрождения любовь возвратила себе статус философской категории, который она имела в античности и который в Средние века был заменен на религиозно-христианский. «…Если кто-то любит нечто, — писал Н. Кузанский, — ибо оно достойно любви, то он радуется тому, что в любимом обнаруживаются бесконечные и невыразимые основания для любви… Красота любимого совершенно неизмерима, бесконечна, неограниченна и непостижима» [10]. Джордано Бруно возвел любовь до уровня всепроникающей космической силы, которая делает человека непобедимым. Отметим, что в эпоху Возрождения вновь стали придавать огромное значение эротике в любви.
В XVII-XVIII вв. происходят существенные изменения в отношении к любви и ее оценках. Вот что писал мыслитель-просветитель И. Гердер, возмущавшийся антигуманизмом платонической любви: «Что же такое любовь? — спрашивает он. -[Это значит] вчувствоваться в существование, в движение сердца другого существа и не только без всякого принуждения, но одновременно с наслаждением, в состоянии радостной интимности переживать себя в другой жизни» [11]. А вот для Г. Гегеля любовь вовсе не уникальное переживание, а только форма нравственной связи двух индивидов. Конечно, в разные эпохи и разными мыслителями любовное чувство оценивалось неодинаково. Но все они сходились в понимании того, что любовь приносит человеку и человечеству в целом не только радость, но и ответственность. Она не только поднимает, вдохновляет людей, но и требует от них высоконравственных поступков. Многие, наверно, понимают, что культура любви заключается прежде всего в духовной культуре, и главное в ней — относиться к любимому к как человеку, а не как к средству для наслаждения.
А вот для Г. Гегеля любовь вовсе не уникальное переживание, а только форма нравственной связи двух индивидов. Конечно, в разные эпохи и разными мыслителями любовное чувство оценивалось неодинаково. Но все они сходились в понимании того, что любовь приносит человеку и человечеству в целом не только радость, но и ответственность. Она не только поднимает, вдохновляет людей, но и требует от них высоконравственных поступков. Многие, наверно, понимают, что культура любви заключается прежде всего в духовной культуре, и главное в ней — относиться к любимому к как человеку, а не как к средству для наслаждения.
В развитии философской мысли о любви, ее смысле и назначении в истории человечества особая роль принадлежит философам XVIII-XIX веков. И. Кант был уверен, что любовь имеет величайшее значение в судьбе человека. «Когда дело касается выполнения долга, а не просто представления о нем, -пишет мыслитель, — когда речь идет о субъективной основе действия, в первую очередь определяющей, как поступит человек (в отличие от объективной стороны, диктующей, как он должен поступить), то именно любовь, свободно включающая волю другого в свои максимы, необходимо дополняет несовершенства человеческой натуры и принуждает к тому, что разум предписывает в качестве закона» [12]. Такие отношения развивают в индивиде гуманные качества, делают его добродетельным, более открытым и т.д.
Такие отношения развивают в индивиде гуманные качества, делают его добродетельным, более открытым и т.д.
Тема любви всегда была близка русскому менталитету. Много и необычайно глубоко писали о ней Вл. Соловьев, Л. Толстой, В. Розанов, Н. Бердяев, И. Ильин, С. Франк и многие другие. В философии любви известного русского религиозного мыслителя Владимира Соловьева высказывается интересная мысль об особой роли любви в нравственном преображении человека и всего человечества. Подобное качественное преображение, по Соловьеву, осуществляется посредством созидания красоты. А красота может быть достигнута только любовью. Таков пафос всех его философских работ на эту тему. «Признавая вполне великую важность и высокое достоинство других родов любви, — писал Вл. Соловьев в книге «Смысл любви», -которыми ложный спиритуализм и импотентный аморализм хотели бы заменить любовь половую, мы видим, однако, что только эта последняя удовлетворяет двум основным требованиям, без которых невозможно решительное упразднение самости в полном жизненном общении с другими» [13].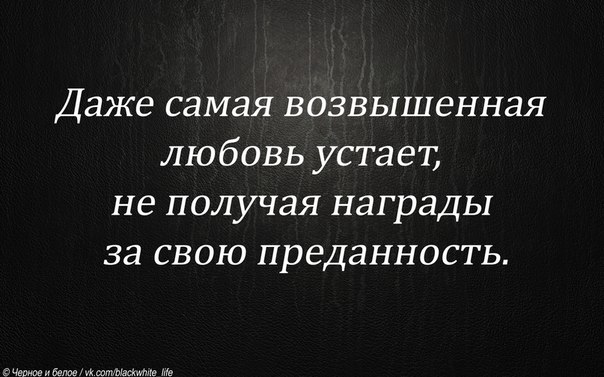 Любовь несет удовлетворение, сама по себе являясь благом и ценностью. Уже одно желание любить предполагает наличие фактора самоуважения. Умение любить расширяет человеческое «Я». В душе любящего человека активизируется желание делать добро, стремление к справедливости, пробуждается духовная энергия, внешне проявляясь как сила завоевательная, но вместе с тем возвышающая индивида. Это происходит потому, что любовь несет в себе огромный творческий и интеллектуальный потенциал.
Любовь несет удовлетворение, сама по себе являясь благом и ценностью. Уже одно желание любить предполагает наличие фактора самоуважения. Умение любить расширяет человеческое «Я». В душе любящего человека активизируется желание делать добро, стремление к справедливости, пробуждается духовная энергия, внешне проявляясь как сила завоевательная, но вместе с тем возвышающая индивида. Это происходит потому, что любовь несет в себе огромный творческий и интеллектуальный потенциал.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Истоки и смысл любви – ОБЩИЙ КУРС ФИЛОСОФИИ. Часть II – Философия. Основные понятия о философии
«Единственное дело, на которое стоит положить жизнь, это любовное общение с людьми».
«Любить значит жить жизнью того, кого любишь».
Л.Толстой
Философы и поэты, художники и писатели-романтики возвели любовь до уровня всемогущей движущей силы, управляющей всем ходом развития человечества. С этим мнением, конечно, можно и не соглашаться, но любовь, несомненно, является самым существенным моментом в жизни каждого индивида. Это возвышенное чувство наполняет людей особой духовной энергией. Философия любви является сферой раздумий, которые позволяют, с одной стороны, осмыслить природу любовного чувства, а с другой — понять и оценить его роль и назначение в жизни и творчестве человека.
С этим мнением, конечно, можно и не соглашаться, но любовь, несомненно, является самым существенным моментом в жизни каждого индивида. Это возвышенное чувство наполняет людей особой духовной энергией. Философия любви является сферой раздумий, которые позволяют, с одной стороны, осмыслить природу любовного чувства, а с другой — понять и оценить его роль и назначение в жизни и творчестве человека.
Любовь как способ существования человека.
Любовь как особый способ межличностного общения -фундаментальная категория философии и психологии, отражающая смысловую сторону человеческой жизни. Именно она одухотворяет жизнедеятельность индивида, его идеалы и т.д. Любовь можно мыслить только как начало тонкой сферы чисто человеческого общения. Она имеет субъективно-объективную основу. Это значит, что субъективные ощущения любви в принципе всегда объективно обусловлены. Любовь — это субъективное отношение человека к миру бытия, предполагающее стремление к счастью. Благодаря любви человечество существует и постоянно самосовершенствуется. В этом чувстве раскрывается естественная потребность (желание) каждого человека стать лучше. Только в любви преодолевается межличностное отчуждение, достигается духовное единение, люди перестают испытывать горечь одиночества, чувство душевной опустошенности.
В этом чувстве раскрывается естественная потребность (желание) каждого человека стать лучше. Только в любви преодолевается межличностное отчуждение, достигается духовное единение, люди перестают испытывать горечь одиночества, чувство душевной опустошенности.
Любовь не поддается управлению и разумному объяснению. О ней можно сказать только то, что она есть, и не более. Невозможно словами объяснить механизм ее возникновения и многочисленные проявления. В античной мифологии, к примеру, ее считали особой космической силой, способной творить чудеса. Сохранилась красивая легенда о том, как жена бога Осириса Изида воскресила усопшего мужа слезами любви.
Однажды появившись на Земле, любовь прочно заняла свое место в жизни человечества. Но отношение к ней всегда было противоречивым. Ее обожествляли и проклинали. В ее честь создавали великие произведения живописи и музыки, писали стихи, возводили дворцы и храмы. Из-за любви сажали в тюрьмы, отправляли в монастыри, даже сжигали на кострах. И сегодня любовь считается одной из самых таинственных сил, которая притягивает к себе множество закрепившихся в философских и культурологических учениях смыслов духовного восхождения личности. Но главное заключено в понимании любви как возвышенного чувства, направленного на разрешение сакральных проблем человеческого бытия, на достижение межличностного единства, слитности с другим индивидом. «Это страстное стремление к единству с другим человеком сильнее всех других человеческих стремлений, — писал философ и психолог Эрих Фромм. — Это самая главная страсть, это сила, которая скрепляет в единое целое семью, клан, общество, весь человеческий род. Без любви человечество не смогло бы просуществовать ни дня» [1]. Именно любовь как качество культурно развитой личности, по Фромму, позволяет понять и объяснить сущность человеческого бытия.
И сегодня любовь считается одной из самых таинственных сил, которая притягивает к себе множество закрепившихся в философских и культурологических учениях смыслов духовного восхождения личности. Но главное заключено в понимании любви как возвышенного чувства, направленного на разрешение сакральных проблем человеческого бытия, на достижение межличностного единства, слитности с другим индивидом. «Это страстное стремление к единству с другим человеком сильнее всех других человеческих стремлений, — писал философ и психолог Эрих Фромм. — Это самая главная страсть, это сила, которая скрепляет в единое целое семью, клан, общество, весь человеческий род. Без любви человечество не смогло бы просуществовать ни дня» [1]. Именно любовь как качество культурно развитой личности, по Фромму, позволяет понять и объяснить сущность человеческого бытия.
Любовь — это необычайно сложное духовное явление в жизни человека. Поэтому она внимательно и всесторонне осмысляется философами. Философский анализ любви — это прежде всего стремление познать любовь посредством мысли, сделать самые общие умозаключения о данном феномене. Считается, что философия любви есть ее рациональное осмысление как главного источника истинно человеческого бытия. Любовь предстает в философии как первоначало, сущность бытийного существования человека: индивидуального и общественного. Иначе говоря, любовь в философии рассматривается в виде чистого человеческого бытия, когда человек любит весь мир, жизнь как таковую. Не случайно наиболее фундаментальным типом любви, лежащим в основе всех ее видов, является любовь к роду человеческому (братская любовь), которая предполагает осознание ответственности за жизнь и здоровье другого человека, желание помочь ему.
Считается, что философия любви есть ее рациональное осмысление как главного источника истинно человеческого бытия. Любовь предстает в философии как первоначало, сущность бытийного существования человека: индивидуального и общественного. Иначе говоря, любовь в философии рассматривается в виде чистого человеческого бытия, когда человек любит весь мир, жизнь как таковую. Не случайно наиболее фундаментальным типом любви, лежащим в основе всех ее видов, является любовь к роду человеческому (братская любовь), которая предполагает осознание ответственности за жизнь и здоровье другого человека, желание помочь ему.
Общеизвестно, что философия имеет дело не только с интеллектом, но и с эмоциями, социальными чувствами, всем спектром духовных проявлений человека. В силу этого совершенно правомерно метафизически осмысливать такую ипостась человеческой способности, как любовь — феноменальное социопсихологическое состояние личности, возникающее в процессе развития особых связей и отношений между людьми.
Издревле любовь считалась источником (началом) истинно человеческого бытия, ибо именно она предопределяла смысл жизни каждого человека, да и судьбу всего человечества. Вспомним прославленного древнегреческого врача, философа Эмпедокла, создавшего учение об основах бытия, представленных землей, водой, воздухом и огнем, которые он называл «корнями всех вещей». Они, по Эмпедоклу, не сводимы друг к другу, но могут смешиваться и разделяться, то есть спонтанно приходить в движение, источниками (первоначалами) которого являются антиподы — Любовь и Вражда. Когда первенствует Любовь, все материальные элементы перемешиваются и образуют «шару подобный, окруженный покоем гордящийся Сферос» [2]. Таким образом, Эмпедокл рассматривал любовь как космическую энергию, стремящуюся усмирять и объединять во Вселенной все, что имеет тенденцию к распаду.
Основы философского познания любви, как многие сегодня считают, сформировались в Древней Греции. А Рим успешно продолжил греческую традицию осмысления любви как сугубо индивидуального и социально-психологического явления. Не упрощая ситуацию того времени, можно смело утверждать, что в античности уже различали два принципиально разных вида любви. Это любовь-страсть и платоническая любовь. Первая предполагает чувственно-эмоциональное состояние личности, которое противостоит разуму, самопознанию. А следовательно, данный вид любви — это не путь к собственному благополучию. Платонический же вид любви выражает чувственный идеал заботы индивида о самом себе в лучшем смысле этого слова. Такая любовь возвышает личность, ибо она, не подверженная слепым страстям, направляется умом, обусловливается нравственным воспитанием.
Не упрощая ситуацию того времени, можно смело утверждать, что в античности уже различали два принципиально разных вида любви. Это любовь-страсть и платоническая любовь. Первая предполагает чувственно-эмоциональное состояние личности, которое противостоит разуму, самопознанию. А следовательно, данный вид любви — это не путь к собственному благополучию. Платонический же вид любви выражает чувственный идеал заботы индивида о самом себе в лучшем смысле этого слова. Такая любовь возвышает личность, ибо она, не подверженная слепым страстям, направляется умом, обусловливается нравственным воспитанием.
Несмотря на зримые различия в понимании и оценке разных видов любви, в античности особо подчеркивали, что она возникает только при очень сильном внешнем воздействии на человека. В Греции, к примеру, считалось, что Эрот (бог любви) поражает человека стрелой своего лука и делает его пленником любви. А главное, любовь не есть усилие самой личности, ее ума, то есть не человек достигает состояния влюбленности, а сама любовь захватывает его, зажигая возвышенным чувством, силой страсти. Платон считал, что только любовь открывает людям глаза на истину, добро и красоту. В своем познании мира человек как бы вступает в брак с любовью, и от этого брака появляется прекраснейшее потомство, которое именуется духовностью и включает в себя философию, мораль, науку и искусство. Только посредством любви индивид открывает смысл своей жизни и становится собственно человеком.
Платон считал, что только любовь открывает людям глаза на истину, добро и красоту. В своем познании мира человек как бы вступает в брак с любовью, и от этого брака появляется прекраснейшее потомство, которое именуется духовностью и включает в себя философию, мораль, науку и искусство. Только посредством любви индивид открывает смысл своей жизни и становится собственно человеком.
Западноевропейские, но особенно русские философы XVIII-XIX веков состояние любви понимали и толковали несколько иначе, чем античные мыслители. Так, француз маркиз де Сад (1740-1814) называл любовь формой душевного безумия. Именно поэтому, считал он, ей бессмысленно сопротивляться. Наоборот, нужно безропотно следовать ее природе. Примерно к тому же призывает и великий немецкий философ И. Кант. «Порой мужчины, чтобы понравиться, — уверен философ, — усваивают женские слабости, а женщины иногда (хотя и гораздо реже) подражают мужским манерам, дабы внушить к себе глубокое уважение, но то, что делают против природы, делают всегда неплохо» [3]. А на вопрос о том, как же надо относиться к любви-страсти или любви-наслаждению, И. Кант отвечает следующим образом: все это недопустимо, поскольку не соответствует целям человеческой природы и ведет к ее искажению, унижает личность.
А на вопрос о том, как же надо относиться к любви-страсти или любви-наслаждению, И. Кант отвечает следующим образом: все это недопустимо, поскольку не соответствует целям человеческой природы и ведет к ее искажению, унижает личность.
Русский мыслитель В.В. Розанов (1856-1919) восторгается любовью-страстью, но только в лоно семьи. Он превозносит ее до небес, включая то телесное наслаждение, которое такая любовь приносит людям. Более того, В.В. Розанов сам акт любовного совокупления рассматривал как естественное и необходимое слияние душ. А вот другой русский философ Н.А. Бердяев видит в половом акте разрушающий личность момент, фактор бездуховности, ибо он отвлекает от лица любимого. По мнению Н.А. Бердяева, не только в личной жизни, но и в науке, искусстве, общественно-политической деятельности всегда есть место искренней любви. Только у любящего возникают светлые идеалы, проявляются благородные чувства, рождаются прекрасные идеи, которые он способен воплотить в действительность.
Большая истинная любовь, наполняя человека духовной энергией, добротой помыслов, дает ему внутренние силы жить осмысленно, всегда и во всем действовать гуманно. Тема истинной любви и нравственного идеала пронизывает творчество великого русского писателя и мыслителя Льва Толстого. Его проповедь «всеобщей любви» нашла понимание у самых разных слоев населения. Однажды он резонно заметил: «Как тело человека требует пищи и страдает без нее, так и душа человека требует любви и без нее страдает» [4]. Эту мысль продолжил философ Д.А. Андреев (1906-1959), страстно убеждая в том, что любовь человеческая, как и творчество, не есть исключительный дар, ведомый лишь избранным: «Пучины любви, неиссякаемые родники творчества кипят за порогом сознания каждого из нас» [5].
О том, что такое любовь, с древности размышляли, спорили, спрашивали друг друга и отвечали, снова спрашивали. Почему же человеку так трудно жить без любви? Русский философ И.А. Ильин (1882-1954) в этой связи заметил, «что главное в жизни любовь и что именно любовью строится совместная жизнь на земле, ибо из любви родится вера и вся культура духа» [6]. Данное обстоятельство, по сути, указывает на то, что любовь есть прочное связующее звено в отношениях людей и особенно в их духовном общении. Разные философские учения, а также религии стремятся понять и использовать в своих интересах уникальную способность человека любить. Однако надо признать, что и сегодня она представляет собой недостаточно осмысленную область человеческого бытия. Действительно, о любви так много сказано и написано, что философско-психологический анализ многим кажется уже лишним. Но все же это настолько феноменальная сфера в отношениях и в общении людей, в формировании их судеб, что ее всестороннее философское рассмотрение представляется нам необходимым. Это, кстати, сегодня признают все: педагоги и психологи, ученые и философы, социологи и политики, медики и писатели. Однако если мы заглянем в учебники по гуманитарным дисциплинам, то увидим, что данные проблемы в них практически не рассматриваются, а если и рассматриваются, то в самой общей декларативной форме. Так, в учебниках по психологии в главах, посвященных чувствам, эмоциям, лишь вскользь упоминается о любви, а во многих пособиях по философии эта тема вообще не затрагивается.
Данное обстоятельство, по сути, указывает на то, что любовь есть прочное связующее звено в отношениях людей и особенно в их духовном общении. Разные философские учения, а также религии стремятся понять и использовать в своих интересах уникальную способность человека любить. Однако надо признать, что и сегодня она представляет собой недостаточно осмысленную область человеческого бытия. Действительно, о любви так много сказано и написано, что философско-психологический анализ многим кажется уже лишним. Но все же это настолько феноменальная сфера в отношениях и в общении людей, в формировании их судеб, что ее всестороннее философское рассмотрение представляется нам необходимым. Это, кстати, сегодня признают все: педагоги и психологи, ученые и философы, социологи и политики, медики и писатели. Однако если мы заглянем в учебники по гуманитарным дисциплинам, то увидим, что данные проблемы в них практически не рассматриваются, а если и рассматриваются, то в самой общей декларативной форме. Так, в учебниках по психологии в главах, посвященных чувствам, эмоциям, лишь вскользь упоминается о любви, а во многих пособиях по философии эта тема вообще не затрагивается. Между тем в истории философской мысли не было ни одного оригинального автора, хоть как-то уклонившегося от рассуждений об этом удивительном и очень сложном духовном явлении. А если признать, что тема человека — действительно ведущая тема во всех мировых философских системах, то проблема человеческой любви, взятая в ее особой духовной объемности и колоритности может считаться важнейшей, определяющей. Она тесно связана с философией, наукой, искусством, моралью и религией. Ведь только в любви и через любовь человек постигает самого себя, свои потенциальные возможности, а также мир, в котором он живет.
Между тем в истории философской мысли не было ни одного оригинального автора, хоть как-то уклонившегося от рассуждений об этом удивительном и очень сложном духовном явлении. А если признать, что тема человека — действительно ведущая тема во всех мировых философских системах, то проблема человеческой любви, взятая в ее особой духовной объемности и колоритности может считаться важнейшей, определяющей. Она тесно связана с философией, наукой, искусством, моралью и религией. Ведь только в любви и через любовь человек постигает самого себя, свои потенциальные возможности, а также мир, в котором он живет.
Любовь, будучи спонтанным (лат. spontaneus — самопроизвольный) чувством глубокого, интимного переживания, симпатии индивида к кому-либо или чему-либо, высвобождает огромные внутренние силы человеческой натуры. Она многими признается тем необычайно важным фактором, который формирует человеческую личность, определяя ее судьбу, награждая телесным и духовным наслаждением, страстным увлечением, которые ни под какие привычные индивидуальные и социальные стандарты и моральные стереотипы не подпадают. Это совершенно необычные ощущения в человеческой жизни, где нет места никаким расчетам, жестким правилам и предписаниям. Любовь всегда и везде отличает имманентное эмоционально-возвышенное самосозидание. Да уже самые первые ее признаки — восхищение, благоговение, милосердие — говорят сами за себя. Это, наверное, самое альтруистическое душевное состояние. Но нельзя упускать из виду и еще одну сторону любви, формирующую личность. Отдавая все, что только можно отдать любимому человеку, любящий стремится к получению ответной реакции, заслуживая любовь к себе.
Это совершенно необычные ощущения в человеческой жизни, где нет места никаким расчетам, жестким правилам и предписаниям. Любовь всегда и везде отличает имманентное эмоционально-возвышенное самосозидание. Да уже самые первые ее признаки — восхищение, благоговение, милосердие — говорят сами за себя. Это, наверное, самое альтруистическое душевное состояние. Но нельзя упускать из виду и еще одну сторону любви, формирующую личность. Отдавая все, что только можно отдать любимому человеку, любящий стремится к получению ответной реакции, заслуживая любовь к себе.
Любовь представляет максимальную ценность для всего рода человеческого как имманентный (внутренний) морально-нравственный генератор радости и наслаждений, источник счастья. Во многих описаниях любовных чувств указывается на особую способность человека душевно «сливаться» воедино с другим. «Истинная сущность любви, — замечает Г. Гегель, — состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом и, однако, в этом же исчезновении и забвении впервые обрести самого себя и обладать самим собой» [7].
В сущности, Г. Гегель рассуждает об идее «слияния» душ, когда душа любящего живет и растворяется в душе любимого и при этом обретает самое себя. Здесь, может быть, заложена сущностная основа любви. Действительно, в состоянии истинной душевной слитности есть нечто таинственное, даже мистическое. Философия обнаруживает эту сферу бытия и строго рационально описывает. Ее качественной стороной является осмысление не самого факта, а знания или мнения о нем. Именно поэтому философски любовь исследуется как феномен иррационального знания, рассматривается ее роль в реализации творческой активности субъекта, а также ее ценностная значимость.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сколько живет любовь? Пять мифов о самом возвышенном чувстве | наука | ОБЩЕСТВО
«Любовь с первого взгляда невозможна», «все мужчины изменяют своим женам», «браки между совершенно разными людьми намного крепче»… О самом возвышенном чувстве существует масса общепринятых клише.
Где здесь правда, а где вымысел? Об этом SPB.AIF.RU разбирался вместе с Янушем Вишневским, доктором химии, микробиологом и популярным польским писателем, ставшим известным благодаря своему роману «Одиночество в сети».
Миф 1. Любовь живет четыре года
Прежде всего, давайте разберемся, что именно мы привыкли называть словом «любовь». Я не устаю повторять – у людей существует некоторое недопонимание того, что же скрывается за этим термином. Дело в том, что мы под любовью почему-то понимаем только ее первую, самую острую фазу. Именно про нее снимают фильмы, пишут книги. И именно этот период действительно длится от 18 месяцев до 4-х лет.
Почему-то люди считают эту фазу самой главной. И жалеют, что она прошла. Хотя с медицинской точки зрения она банально связана с либидо, желанием прикосновений. В это время в мозгу влюбленного человека вырабатывается вещество, близкое по составу к опиатам. Героиновая зависимость и любовная зависимость на первой стадии очень похожи. И это очень большая перегрузка для организма. Человек может не спать ночами, ничего не есть, сердце влюблённого стучит гораздо чаще, он перестает рационально размышлять. Конечно, в таком состоянии никто не может находиться вечно. Поэтому этот период проходит.
И это очень большая перегрузка для организма. Человек может не спать ночами, ничего не есть, сердце влюблённого стучит гораздо чаще, он перестает рационально размышлять. Конечно, в таком состоянии никто не может находиться вечно. Поэтому этот период проходит.
Но это вовсе не значит, что любовь ушла. Просто она вступила в другую фазу. С другими химическими реакциями.
Миф 2. Любовь с первого взгляда невозможна
Конечно, если говорить о глубоком, взвешенном чувстве, основанном на общих целях, интересах, ценностях, то одного взгляда на человека для его формирования явно не достаточно. Однако для зарождения любви, для запуска первой фазы этого чувства, о которой мы говорили выше, порой хватает и одной встречи.
Откуда приходит любовь? Ответа на этот вопрос не знает ни один учёный. Досконально изучено, что происходит в мозгу уже влюблённого человека. Но вот с чего это начинается — от её смеха, от лёгкого прикосновения, оттого, что мочка её уха показалась тебе такой трогательной — никто не знает. В какой момент наш мозг начинает вырабатывать эти дурманящие вещества? Надеюсь, люди никогда не узнают ответа.
В какой момент наш мозг начинает вырабатывать эти дурманящие вещества? Надеюсь, люди никогда не узнают ответа.
Более того, совсем не обязательно находиться в физическом контакте с человеком, чтобы запустить процесс выработки фетилэтиламина, отвечающего за влюбленность. Люди влюбляются и в Интернете, ни разу не встречая друг друга в реальности.
Так, Гейдельбергский и Оксфордский университеты проводили исследования, где изучали две группы людей – одни полюбили в реальной жизни, другие встретили свою половинку в Сети. Результаты опытов были одинаковыми и для тех, кто влюбился в баре, и для тех, кого это чувство застигло у компьютера.
Большинство мужчин во время общения в чате с женщинами автоматически втягивают живот. Я считаю, что в Интернете даже проще влюбиться. Он лишен физического контакта, в Сети на любовь может рассчитывать и парень на инвалидной коляске, и невзрачная серая мышка, это не играет никакой роли. Здесь самое важное – слово.
Миф 3. Противоположности притягиваются
Поговорка про то, что противоположности притягиваются – не более чем переиначенный закон физики. Но к психологии любви он не имеет никакого отношения.
Но к психологии любви он не имеет никакого отношения.
Да, это может сработать в самом начале отношений, когда ты очарован партнером только благодаря той разнице, что существует между вами. Такая связь полна тайн и открытий. Ты не знаешь, что твой возлюбленный сделает в следующий момент, ведь он совсем не похож на тебя – и это завораживает.
Но, к сожалению, коллекция тайн, которые эта персона может поведать, весьма ограничена. И через какое-то время ее непохожесть начинает раздражать. Так, кажущаяся спонтанность и непредсказуемость оборачивается необязательностью и неумением держать обещания. То, что сначала мой партнер не читает книг, потому что все его время посвящено мне, кажется великой жертвой любви… А потом оказывается, что он в принципе не читает, и потому поговорить с ним особо не о чем.
И пусть я не верю в теорию про две половинки, но считаю, что люди похожие имеют больше шансов на счастье. Какие-то небольшие несовпадения, если в основе отношений лежит любовь, можно отшлифовать. Но нельзя скрещивать грушу с яблоком. Пусть лучше это будут два разных яблока.
Какие-то небольшие несовпадения, если в основе отношений лежит любовь, можно отшлифовать. Но нельзя скрещивать грушу с яблоком. Пусть лучше это будут два разных яблока.
Миф 4. Все мужчины изменяют
Изменяют не только мужчины. Хотя человек принадлежит к одному из самых моногамных видов живых существ. Так, по результатам недавних исследований, проведённых в Европе, выяснилось, что 52% людей спят только с одним партнером. Хотя, должен заметить, они делают это вопреки своей природе.Если говорить с позиции микробиолога, то моногамия – довольно страшная вещь. Это подтверждает и природа: недаром в мире существует лишь один вид моногамных существ – одна из разновидностей кольчатых червей. Даже те же лебеди – общепризнанный символ верности – далеко не так «чисты», как мы привыкли считать. Биологи давно доказали, что из 10 высиживаемых самкой яиц, как правило, три зачаты от другого самца.
И если бы мы провели гипотетическое анкетирование среди макак, выяснили бы, что они далеко не так избирательны в своих связях.
Вообще, эволюции, прогрессу человеческого вида моногамия, конечно, препятствует. И должен заметить, что, выражаясь грубо, в мире гораздо больше спермы, чем спроса на нее. Так, здоровая женщина за всю жизнь может родить порядка 20 детей, если начнет рожать с 16 лет. Мужчина же с помощью лишь одной эякуляции способен оплодотворить всю Швейцарию.
Но, конечно, идеальные отношения – это когда существует лишь одна женщина и один мужчина. За этим следит и религия, это пропагандирует общественная мораль. Любовь – это тайна, доступная только двоим. И проблема даже не в том, что, изменяя, мы спим с кем-то еще.
Секс, как правило, у всех происходит одинаково. А вот то, что мы шепчем при этом, как реагируем на прикосновения – это и есть та самая тайна, которую мы, изменяя, открываем третьему человеку. И именно в этом момент предательства. А вовсе не в нескольких фрикциях.
Миф 5. Самая сильная любовь – первая
Самый неправдоподобный миф. Вся прелесть любви заключается в том, что каждый раз, когда человек влюбляется, он верит в то, что это чувство – уникальное, единственное и неповторимое. И именно эта любовь, которая происходит в данный момент, самая важная в его жизни. Поэтому самая сильная любовь – это всегда последняя.
И именно эта любовь, которая происходит в данный момент, самая важная в его жизни. Поэтому самая сильная любовь – это всегда последняя.
Социальный смысл любви
Любовь, несомненно, относится к числу экзистенциальных категорий человеческого бытия, то есть к числу таких проявлений человеческой жизни, без которых она принципиально не полна: вне любви человек лишается ощущения радости жизни, ее эмоциональной наполненности, стимула к конструктивной деятельности. В конечном итоге в отсутствие любви человек может утратить само желание жить, окажется не в состоянии мобилизовать свою волю для того, чтобы придать жизни определенную направленность и осмысленность.
Вместе с тем приходится отметить, что в реальности любовь – явление достаточно редкое. Во всяком случае, можно с определенностью констатировать, что в действительной истории общества любовь встречается значительно реже, чем можно судить по тому, сколь часто она встречается в произведениях искусства, поэзии или даже в повседневном словоупотреблении. Употребляя слово «любовь» «всуе», люди вкладывают в него самый разный смысл, часто весьма произвольный.
Употребляя слово «любовь» «всуе», люди вкладывают в него самый разный смысл, часто весьма произвольный.
Нередко понятие «любовь» трактуется в качестве некоего подобия вещи, которую следует приобрести, а партнеры по «любви» рассматривают друг друга, исходя из принципа «обладать» или «иметь». Явное, а чаще неявное, понимание любви с позиций обладания, с позиций собственности весьма распространено.
По поводу такого понимания любви Э. Фромм писал: «Дело в том, что такой “вещи”, как любовь, не существует. “Любовь” – это абстракция; может быть, это какое-то неземное существо или богиня, хотя никому еще не удавалось увидеть эту богиню воочию. В действительности же существует лишь акт любви. Любить – это форма продуктивной деятельности. Она предполагает проявление интереса и заботы, познание, душевный отклик, изъявление чувств, наслаждение и может быть направлена на человека, дерево, картину, идею. Она возбуждает и усиливает ощущение полноты жизни. Это процесс самообновления и самообогащения»[1].
Если же «человек испытывает любовь по принципу обладания, то это значит, что он стремится лишить объект своей “любви” свободы и держать его под контролем. Такая любовь не дарует жизнь, а подавляет, губит, душит, убивает ее. Когда люди говорят о любви, они обычно злоупотребляют этим словом, чтобы скрыть, что в действительности они любви не испытывают. Многие ли родители любят своих детей? Этот вопрос все еще остается открытым… История западного мира двух последних тысячелетий свидетельствует о таких ужасных проявлениях жестокости родителей по отношению к собственным детям – начиная от физических истязаний и кончая издевательствами над их психикой, – о таком безразличном, откровенно собственническом и садистском отношении к ним, что приходится признать, что любящие родители – это скорее исключение, чем правило»[2].
Следует согласиться с Фроммом, что то же можно сказать и о браке: действительно любящие друг друга муж и жена – явление достаточно редкое. Часто за любовь принимается то, что таковой не является. Обычай «вступать в брак», общие экономические интересы, обоюдная привязанность к детям, взаимная зависимость – все это осознается как «любовь», пока один или оба партнера не признаются, что они не любят и никогда не любили друг друга.
Часто за любовь принимается то, что таковой не является. Обычай «вступать в брак», общие экономические интересы, обоюдная привязанность к детям, взаимная зависимость – все это осознается как «любовь», пока один или оба партнера не признаются, что они не любят и никогда не любили друг друга.
Особое «коварство» собственнической установки по отношению к любви заключается в том, что эта установка может обнаружиться не сразу, поэтому на первых этапах сближения люди могут не ощущать и не обнаруживать ни своих собственнических устремлений, ни аналогичных со стороны партнера. Для первого этапа развития отношений характерно, как правило, желание продемонстрировать свои лучшие качества, свое внимание к партнеру, интерес к его личности, уважение к ней. Однако все может измениться едва ли не на следующий день после заключения брака. Цель достигнута, желанный «объект» стал моей собственностью, следовательно, он поступил в мое полное распоряжение. Таким образом, доминирование установки на обладание часто ведет к развитию отношений по линии: сначала любовь, затем «мирное совместное владение собственностью, некая корпорация» (Э. Фромм), ошибочно именуемая семьей. Наконец, выход нередко видят в поиске нового партнера или партнеров, полагая, что они способны удовлетворить потребность в любви. Но и новая любовь неизбежно терпит крах, если она основана на том же стремлении «иметь», то есть подчинить себе партнера, владеть любовью, подобно тому, как владеют некой вещью, имуществом. Любовь принципиально не может быть основана на стремлении подчинить своим интересам и партнера, и саму любовь. Поэтому вполне правомерно утверждение, что «любовь – дитя свободы».
Фромм), ошибочно именуемая семьей. Наконец, выход нередко видят в поиске нового партнера или партнеров, полагая, что они способны удовлетворить потребность в любви. Но и новая любовь неизбежно терпит крах, если она основана на том же стремлении «иметь», то есть подчинить себе партнера, владеть любовью, подобно тому, как владеют некой вещью, имуществом. Любовь принципиально не может быть основана на стремлении подчинить своим интересам и партнера, и саму любовь. Поэтому вполне правомерно утверждение, что «любовь – дитя свободы».
Но если любовь не может быть построена на эгоистически-собственнической установке, то не менее важным для любви является умение партнеров избежать и противоположной опасности – чрезмерного альтруизма. Такой альтруизм выражается в желании угодить партнеру во всех случаях, в готовности всегда и всюду удовлетворять все его капризы. Возражая против понимания любви как абсолютного альтруизма, С. Франк писал: «Любовь не есть холодная и пустая, эгоистическая жажда наслаждения, но любовь и не есть рабское служение, уничтожение себя для другого. Любовь есть такое преодоление нашей корыстной личной жизни, которое и дарует нам блаженную полноту подлинной жизни и тем осмысляет нашу жизнь»[3]. Любящий не может и не должен раствориться в любимом. Он не может и не должен потерять свое лицо, свою личность, поскольку в этом случае он рискует погасить интерес к себе не только со стороны посторонних людей, но и со стороны любимого. Забота о сохранении и развитии творческого потенциала собственной личности каждого из партнеров является необходимым условием любви. При этом условии общение в любви становится взаимным духовным обогащением, совместным творчеством друг друга и свободным творчеством совместной жизни. Любовь есть свободная взаимосвязь и творческое взаимодействие участников любви.
Любовь есть такое преодоление нашей корыстной личной жизни, которое и дарует нам блаженную полноту подлинной жизни и тем осмысляет нашу жизнь»[3]. Любящий не может и не должен раствориться в любимом. Он не может и не должен потерять свое лицо, свою личность, поскольку в этом случае он рискует погасить интерес к себе не только со стороны посторонних людей, но и со стороны любимого. Забота о сохранении и развитии творческого потенциала собственной личности каждого из партнеров является необходимым условием любви. При этом условии общение в любви становится взаимным духовным обогащением, совместным творчеством друг друга и свободным творчеством совместной жизни. Любовь есть свободная взаимосвязь и творческое взаимодействие участников любви.
Особо следует сказать о половой любви. Для этого вида любви, конечно, важна страстная, «дионисийская» природа любви. Под влиянием страсти партнеры по любви способны, конечно, и на безрассудные поступки. Тем не менее это безрассудство имеет свои пределы. Например, Рогожин в романе «Идиот», будучи по натуре человеком безудержно страстным, любит Настасью Филипповну со всей силой безоглядной страсти. Он бросает на ее глазах в огонь стопки ассигнаций, решительно и бесцеремонно расправляется с противниками, сокрушает все препятствия, чтобы завладеть душой и телом Настасьи Филипповны. Но, однако, все же трудно вообразить, чтобы ему пришла в голову мысль посадить ее на цепь, как это происходит сегодня в некоторых современных сюжетах. Теми, кто лишает женщину свободы, заключает ее в темницу, заковывает в цепи и насилует вопреки ее воле, движет отнюдь не любовь. Это безудержная похоть, распущенность, при которой сладострастие стало полновластным хозяином души и теперь диктует агрессивные устремления, в том числе и по отношению к тому человеку, который стал объектом вожделения.
Например, Рогожин в романе «Идиот», будучи по натуре человеком безудержно страстным, любит Настасью Филипповну со всей силой безоглядной страсти. Он бросает на ее глазах в огонь стопки ассигнаций, решительно и бесцеремонно расправляется с противниками, сокрушает все препятствия, чтобы завладеть душой и телом Настасьи Филипповны. Но, однако, все же трудно вообразить, чтобы ему пришла в голову мысль посадить ее на цепь, как это происходит сегодня в некоторых современных сюжетах. Теми, кто лишает женщину свободы, заключает ее в темницу, заковывает в цепи и насилует вопреки ее воле, движет отнюдь не любовь. Это безудержная похоть, распущенность, при которой сладострастие стало полновластным хозяином души и теперь диктует агрессивные устремления, в том числе и по отношению к тому человеку, который стал объектом вожделения.
На сегодняшний день следует отметить весьма тревожную ситуацию, которая, в частности, делает философское осмысление любви исключительно актуальным. С достаточной степенью уверенности можно сделать вывод о том, что в современном мире торжествует культ секса. Секс наряду с насилием доминирует в массовой культуре начала xxi столетия. Очевидно, что чем больше современный мир ориентируется на секс, тем больше он уходит от любви: происходит извращение понятия половой любви, и в целом имеет место искажение всего комплекса отношений между мужчиной и женщиной.
Секс наряду с насилием доминирует в массовой культуре начала xxi столетия. Очевидно, что чем больше современный мир ориентируется на секс, тем больше он уходит от любви: происходит извращение понятия половой любви, и в целом имеет место искажение всего комплекса отношений между мужчиной и женщиной.
Теоретическое оправдание гипертрофированного культа секса находим в книге Э. Гидденса[4].
Центральным для концепции Гидденса является понятие «конфлюентная любовь». Согласно автору, в эпоху «после сексуальной революции», то есть в современную эпоху глобализации, любовные чувства и отношения меняются. На смену романтической любви приходит то, что автор называет конфлюентной любовью. Конфлюентной любви присущи следующие характеристики. «Первое, сексуальность становится непременным и основным компонентом любовных отношений. Второе, ценным в любви оказывается не объект любви, который не воспринимается более в качестве неповторимого, единственного и в идеале обретенного навсегда, а сами отношения как факт здесь-и-сейчас осуществляющейся жизни.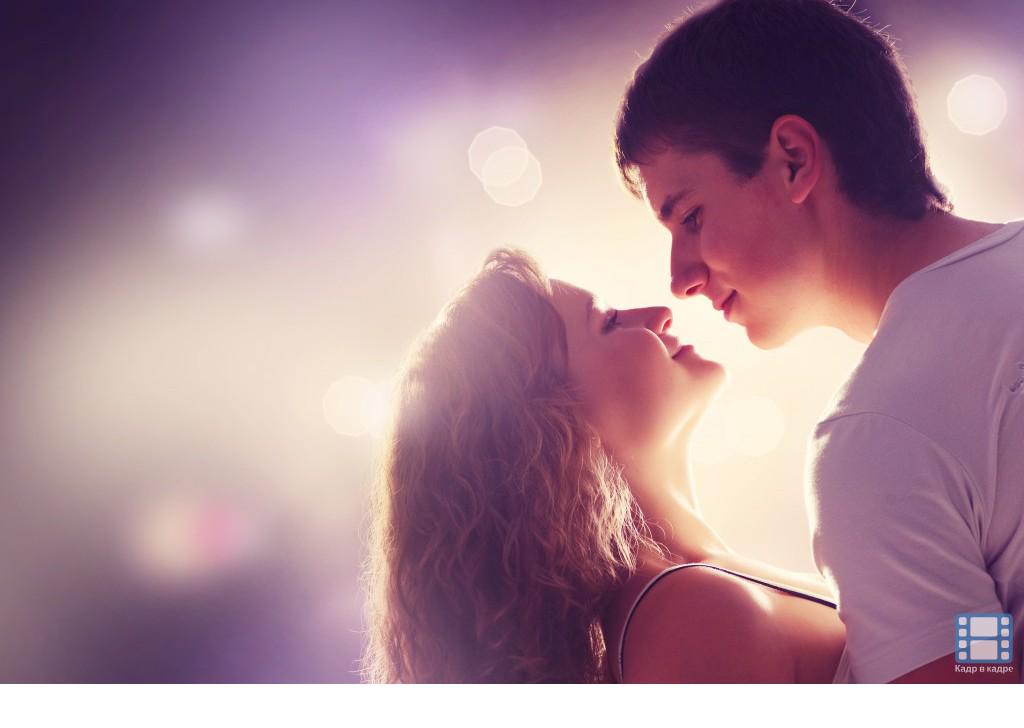 Третье, это – текучая, преходящая любовь»[5].
Третье, это – текучая, преходящая любовь»[5].
Представляется, что нет необходимости в обстоятельном анализе книги, тщательном рассмотрении тонкостей дефиниций, сложных логических построений и аргументации. В современном мире ситуация такова, что ни титулы, ни ученые звания не дают гарантии качественности идей и концепций. Перед нами тот случай, к которому вполне применима поговорка: «чтобы убедиться, что щи прокисли, не обязательно есть всю кастрюлю». Поэтому достаточно обратить внимание лишь на некоторые моменты предложенной концепции.
Автор, профессор социологии, директор всемирно известной Лондонской высшей школы экономики открывает читателям «громовую истину» (которая выражена в приведенной выше цитате). Представляется, что «ценным в любви оказывается не объект любви, который не воспринимается более в качестве неповторимого, единственного, а сами отношения как факт здесь-и-сейчас осуществляющейся жизни». Но если объект любви, то есть другой человек, не является ценностью, а ценностью является то, что я хочу от него получить (в данном случае сексуальное удовольствие), то о какой любви вообще может идти речь? «Другой» вообще не существует для меня как человек, как личность. Такого рода отношения можно называть как угодно, но только не любовью.
Такого рода отношения можно называть как угодно, но только не любовью.
Скорее всего, это то самое холодно-отстраненное отношение к человеку «как к средству только, но не как к цели», против которого, формулируя категорический императив, резко выступал Кант, а вслед за ним и последующая философия и европейская культура в целом. Утилитарное отношение к человеку сопровождает, к сожалению, всю историю человечества. Поэтому в нем нет ничего нового. Но культура и философия всегда сопротивлялись превращению человека в «штифтик», в «разменную монету», в «средство», утверждая и возвышая достоинство личности.
«Характерно, – отмечает Р. Г. Апресян, – что З. Бауман, другой известный английский социолог, пишущий на темы, близкие тем, что развивает Гидденс, говорит о liquid love, прибегая к лексеме, семантически близкой лексеме “confluent”»[6]. Тем не менее «liquid love» – буквально «жидкая любовь» – в русском языке имеет богатую и неоднозначную семантику. Так, если о ком-то говорят: «жидкий человек», то, конечно, не имеют в виду его «текучесть», гибкость. Смысл в данном случае совсем иной, вполне понятный. Для более ясного и точного выражения идей Гидденса как раз и следовало бы перевести его «confluent» как «жидкий». Тогда «жидкая любовь» полностью встраивается в контекст «жидкий человек», «жидкое общество», «жидкая жизнь» и т. д. Вот эту «жидкую жизнь» и предлагает нам английский автор, заменяя возвышенное понимание любви на «отношения здесь-и-сейчас».
Так, если о ком-то говорят: «жидкий человек», то, конечно, не имеют в виду его «текучесть», гибкость. Смысл в данном случае совсем иной, вполне понятный. Для более ясного и точного выражения идей Гидденса как раз и следовало бы перевести его «confluent» как «жидкий». Тогда «жидкая любовь» полностью встраивается в контекст «жидкий человек», «жидкое общество», «жидкая жизнь» и т. д. Вот эту «жидкую жизнь» и предлагает нам английский автор, заменяя возвышенное понимание любви на «отношения здесь-и-сейчас».
Расплавленность, разжиженность, растекание, размазанность – все это синонимы утраты способности к самоорганизации, разрушения структурности, утраты функциональности и замирания жизни, это синонимы «бледной немочи», то есть смерти. Смерть ведь не есть пустота, абсолютное ничто. Она есть бледное подобие жизни. С приходом смерти человек превращается в труп, который весьма похож на живого человека, но из него исчезло то, что делало его живым: самоорганизованность всех телесно-душевных проявлений. Тело лишается структурной и функциональной организации, что и влечет за собой разжижение покровов и тканей, их растекание и расплывание, «размазывание» по окружающей среде. Впрочем, о том, что уничтожение любви (хотя бы и теоретическое) равнозначно покушению на саму жизнь, скажем ниже. Пока обратим внимание на следующее обстоятельство.
Тело лишается структурной и функциональной организации, что и влечет за собой разжижение покровов и тканей, их растекание и расплывание, «размазывание» по окружающей среде. Впрочем, о том, что уничтожение любви (хотя бы и теоретическое) равнозначно покушению на саму жизнь, скажем ниже. Пока обратим внимание на следующее обстоятельство.
Не знаю, как авторы и читатели с берегов туманного Альбиона, но мы в России (в Советском Союзе) все, что отстаивает Гидденс, уже «проходили» в начале другой, «новой, небывало светлой эры», наступившей задолго до светлой эры глобализации. Поэтому не составляет особого труда сделать вывод: концепция британского автора есть не более чем переодетая в наукообразную форму хорошо известная в СССР 20-х гг. ушедшего столетия так называемая «теория стакана воды».
Эта «теория» получила широкое распространение на волне революционного энтузиазма и активно обсуждалась молодежью 20-х гг. В несколько смягченном и теоретически проработанном виде ее выразила видная деятельница большевизма А. Коллонтай в статье «Дорогу крылатому эросу!» Но с предельной откровенностью она сформулирована в высказываниях молодого человека по имени Исайка Чужак, героя повести С. Малашкина «Луна с правой стороны». Повесть Малашкина, посвященная новой, «пролетарски-революционной» трактовке сексуальных отношений, широко обсуждалась на тысячах диспутов по всему Советскому Союзу. Речи героев повести по поводу революционного, то есть наиболее «современного» и «правильного», понимания половых отношений в то время воспринимались читателями, разумеется, с полной серьезностью. Сегодня же они не могут не вызывать улыбки. Пламенные выступления персонажей повести – некоторое карикатурное подобие концепции Гидденса, позволяющее, как и всякая хорошая карикатура, в более ярком свете увидеть характерные черты изображаемого предмета.
Коллонтай в статье «Дорогу крылатому эросу!» Но с предельной откровенностью она сформулирована в высказываниях молодого человека по имени Исайка Чужак, героя повести С. Малашкина «Луна с правой стороны». Повесть Малашкина, посвященная новой, «пролетарски-революционной» трактовке сексуальных отношений, широко обсуждалась на тысячах диспутов по всему Советскому Союзу. Речи героев повести по поводу революционного, то есть наиболее «современного» и «правильного», понимания половых отношений в то время воспринимались читателями, разумеется, с полной серьезностью. Сегодня же они не могут не вызывать улыбки. Пламенные выступления персонажей повести – некоторое карикатурное подобие концепции Гидденса, позволяющее, как и всякая хорошая карикатура, в более ярком свете увидеть характерные черты изображаемого предмета.
Главный герой, уже упомянутый Исайка Чужак, выразил новое кредо в речи перед участниками групповых сексуальных игр. «Стоя на столе перед несколькими парами юношей и девушек (последние были одеты в газовые прозрачные платья), он, как заправский оратор, вещал: любовь красива и свободна только до тех пор, пока есть необходимость в другом. Ведь марксизм говорит: сознание необходимости это и есть свобода. В любви люди дополняют друг друга… Поэтому нарушение гармонии, появление диссонирующих ноток должно приводить к разрыву связи. Следует ли страшиться разрыва? – задается риторическим вопросом студент. И отвечает в категорической форме – нет. Ибо это вполне закономерно. И затем Исайка уточняет: живя в “иных” условиях, он встречает женщину – товарища по делу и взглядам, у них зарождаются общие интересы, они стали дополнять друг друга и тем самым устанавливается новая связь, а предыдущая с полным сознанием необходимости расторгается»[7].
Ведь марксизм говорит: сознание необходимости это и есть свобода. В любви люди дополняют друг друга… Поэтому нарушение гармонии, появление диссонирующих ноток должно приводить к разрыву связи. Следует ли страшиться разрыва? – задается риторическим вопросом студент. И отвечает в категорической форме – нет. Ибо это вполне закономерно. И затем Исайка уточняет: живя в “иных” условиях, он встречает женщину – товарища по делу и взглядам, у них зарождаются общие интересы, они стали дополнять друг друга и тем самым устанавливается новая связь, а предыдущая с полным сознанием необходимости расторгается»[7].
Как видим, стремление к получению сексуального удовольствия «здесь-и-сейчас» можно оправдать не только свободой (как у Гидденса), но при желании и необходимостью: дескать, я вовсе этого и не хочу, это необходимо, поэтому следует «осознать» необходимость и подчиниться ей. Так даже будет более убедительно, чем некие туманные рассуждения о свободе.
«Как же так? С первым встречным. .. – говорит в пьесе М. Булгакова «Собачье сердце» профессор Преображенский молоденькой домработнице, со слезами признавшейся ему в последствиях случайной сексуальной связи, – ну разве можно?..» Вообще говоря, конечно, можно. Но зачем называть это любовью?
.. – говорит в пьесе М. Булгакова «Собачье сердце» профессор Преображенский молоденькой домработнице, со слезами признавшейся ему в последствиях случайной сексуальной связи, – ну разве можно?..» Вообще говоря, конечно, можно. Но зачем называть это любовью?
Сексуальная революция, вопреки британскому автору, о книге которого идет речь, отнюдь не явление последнего десятилетия, то есть периода глобализации. «Сексуальная революция произошла в Америке приблизительно во время Первой мировой войны, – пишет американский автор, – и с тех пор каждое последующее поколение женщин исходило из новых представлений о сексуальной свободе, развивая их дальше»[8]. В те же самые сроки сексуальная революция происходила и в Европе. Упомянутое выше широкое обсуждение повести Малашкина, статья Коллонтай и другие факты говорят о том, что сексуальная революция в своеобразной форме происходила и в России в 20-е гг. XX столетия. Она была задавлена партийно-государственной идеологией в середине 30-х гг. Тем не менее российская сексуальная революция не прошла даром, и ее результаты имели значение для последующего развития советского общества. Поэтому заявление о том, что «в СССР секса нет», прозвучавшее в одном из ток-шоу начала перестройки, не соответствовало действительности. На самом деле в области секса мы были если и не «впереди планеты всей», то, во всяком случае, не последними[9].
Тем не менее российская сексуальная революция не прошла даром, и ее результаты имели значение для последующего развития советского общества. Поэтому заявление о том, что «в СССР секса нет», прозвучавшее в одном из ток-шоу начала перестройки, не соответствовало действительности. На самом деле в области секса мы были если и не «впереди планеты всей», то, во всяком случае, не последними[9].
Сексуальная революция конца второго десятилетия XX в. учредила три свободы: «свободу нарушать формальные кодексы; свободу избирать формы сексуального поведения, отличные от общепринятых; свободу полного самовыражения в интимной сфере как необходимое условие счастья»[10]. Эти достижения сексуальной революции остаются значимыми и для сегодняшнего дня. Именно с их позиций большинство населения Европы, России и США и рассматривает роль сексуальных отношений в рамках половой любви, в рамках брачных отношений между супругами. Вопреки Гидденсу, никаких существенных изменений в последние десятилетия, то есть в эпоху глобализации, не произошло. Тот факт, что молодежь воспринимает давно открытое как новое, вполне понятен. Но факт, что маститый профессор, не зная истории вопроса, взялся за пропаганду примитивной «теории стакана воды», облекая ее в наукообразную оболочку и выдавая за последнее слово социологии, не может не вызывать опасений.
Тот факт, что молодежь воспринимает давно открытое как новое, вполне понятен. Но факт, что маститый профессор, не зная истории вопроса, взялся за пропаганду примитивной «теории стакана воды», облекая ее в наукообразную оболочку и выдавая за последнее слово социологии, не может не вызывать опасений.
Не имеет ли место сегодня на Западе то же самое, что наблюдалось в России непосредственно после 1917 г. и что А. Платонов характеризовал как «ювенильное море» (от лат. juvenile – молодой, юный)? Ювенильное море – это отрыв от истории, от культуры, это «изобретение велосипеда», «открытие Америки», за что неизбежно берется молодежь, если происходит разрыв времен, если старшие утрачивают авторитет и, конечно, если старшее поколение в лице профессоров философии и социологии добровольно отказывается от своей миссии передавать исторический опыт культуры в будущее.
Похоже, что дело обстоит именно так: английский профессор либо сознательно превращает в ювенильное море своих читателей, либо сам впал в историческое беспамятство.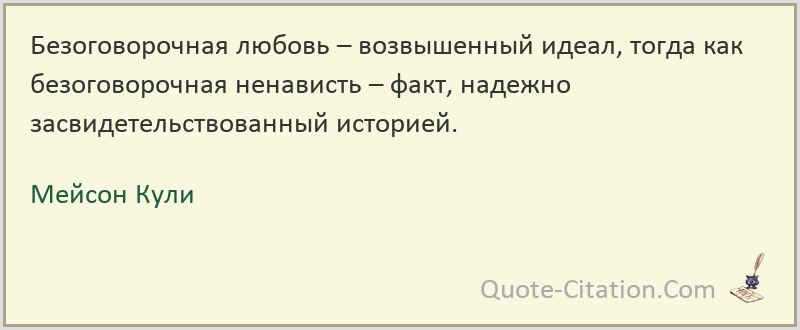
Ведь только и остается, что удивляться: из страны, где консерватизм, что называется, «в крови», раздается призыв, один в один повторяющий то, что в 20-е гг. громко звучало в леворадикальной коммунистической России: «сбросим классиков с корабля современности!» Согласно Гидденсу, романтическая любовь безвозвратно ушла в прошлое, она есть анахронизм, ей место на «свалке истории». Следовательно, и для художественных произведений, в которых она воспета, не найти уже места попристойней. А мы-то по наивности полагали, что Запад создал великие образцы, значение которых всемирно и непреходяще. «Русская литература не знает таких прекрасных образов любви, как литература Западной Европы, – писал Н. Бердяев. – У нас нет ничего подобного любви трубадуров, любви Тристана и Изольды, Данте и Беатриче, Ромео и Джульетты. Любовь мужчины и женщины, любовный культ женщины – прекрасный цветок христианской культуры Европы… У нас не было настоящего романтизма в любви. Романтизм – явление Западной Европы»[11]. Если Европа решила раздавить «прекрасный цветок», – что ж, это ее выбор.
Если Европа решила раздавить «прекрасный цветок», – что ж, это ее выбор.
Подводя итог краткого анализа нашумевшей публикации английского автора, отмечу, что во всей несуразице, которая присуща рассуждениям профессора, имеется, пожалуй, один вопрос, заслуживающий серьезного внимания. Этот вопрос состоит в следующем: имеются ли в жизни человека прочные константы вневременного характера, без которых эта жизнь невозможна? Или же все целиком и полностью зависит от времени, эпохи, социальных условий?
Очевидно, что такие константы существуют. Как в космосе существуют константы постоянства скорости света, гравитационная постоянная, постоянная Планка и др., так и в человеческой жизни есть константы, на которых она основана и без которых превращается лишь в подобие жизни, в действительности трансформируясь в небытие. Константы человеческой жизни связаны с понятием свободы («человек обречен быть свободным»), с ответственным выбором («тревога» – К. Ясперс, «забота» – М. Хайдеггер, «тяжесть» – Н. Бердяев), с творчеством и, разумеется, с любовью. Конечно же, любовь – это не получение удовольствия «здесь-и-сейчас», а сложный культурно-духовный феномен, который может быть понят только в широком контексте всей истории человеческой культуры, в контексте понимания любви как особой формы человеческого бытия в мире.
Бердяев), с творчеством и, разумеется, с любовью. Конечно же, любовь – это не получение удовольствия «здесь-и-сейчас», а сложный культурно-духовный феномен, который может быть понят только в широком контексте всей истории человеческой культуры, в контексте понимания любви как особой формы человеческого бытия в мире.
В рамках любви в ее экзистенциальном понимании, то есть как особой формы человеческого бытия в мире, создаются наиболее благоприятные условия для саморазвития личности. Вместе с тем и сама любовь есть не что иное, как творчество, поскольку предполагает свободные усилия ее участников по созиданию любви. Таким образом, не будет преувеличением утверждать, что именно любовь есть глубинный источник творчества, его движущая сила, и одновременно она есть само творчество, одухотворенная творческая мощь жизни.
Вл. Соловьев был убежден, что за раздорами, разладами, борьбой, легко обнаруживаемыми на поверхности всякой реальности, в глубине скрывается сила взаимного притяжения, сила любви. Именно поэтому мир не раскалывается на изолированные, несвязанные части, а представляет собой единое упорядоченное целое. Красноречивы известные стихотворные строки Вл. Соловьева:
Именно поэтому мир не раскалывается на изолированные, несвязанные части, а представляет собой единое упорядоченное целое. Красноречивы известные стихотворные строки Вл. Соловьева:
Смерть и Время царят на земле, –
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви[12].
В мире человеческих взаимоотношений любовь выступает в разнообразных проявлениях. Бытие человека включает половую любовь, братскую любовь к ближним, любовь к природе, любовь к знаниям, к любимому делу, наконец, любовь к Богу.
Любовь во всех случаях выступает способом преодоления духовной самоизоляции, экзистенциального одиночества. Любовь соединяет, в то время как равнодушие или ненависть отгораживают, отстраняют человека от мира и других людей. Любовь предполагает рассмотрение другого как части меня самого. Поэтому она открывает человека навстречу другому. Любовь создает возможности для более глубокого познания окружающего мира.
Смотрящий на мир добрыми глазами больше увидит, отмечал Т. Манн. Мысль Т. Манна созвучна идее Достоевского, с которой мы начали изложение, – о «познающей любви» и «любящем познании». В связи со сказанным, думается, есть все основания говорить о познавательной продуктивности любви. Идея о познавательном значении любви характерна для целого ряда русских мыслителей, таких как А. С. Хомяков, представителей философии всеединства В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка и др. Ее разделяли основатель русского интуитивизма Н. О. Лосский и создатель философии экзистенциального персонализма Н. А. Бердяев.
Познавательная продуктивность свойственна не только родительской, но и всем другим видам любви.
Когнитивный аспект любви, определяющий ее познавательную продуктивность, связан в первую очередь с тем, что познание реализуется не одним только разумом, а всей совокупностью душевных сил. Разум, изолированный от целостного существа человека, превращается в холодный и отстраненный рассудок, в то, что Достоевский метафорически характеризовал как «эвклидов ум». Такой ум способен только лишь к построению абстрактных схем, но не способен понять изучаемый предмет в его целостности, объемности, многообразии. Полноценное познание предполагает деятельность не одного только разума, но и участия в нем всего существа человека: воли, эмоций, интуиции, органов чувств, сердца как метафизического центра человеческой личности. Наконец, и тело есть не только внешняя оболочка человека – тело в совокупности всех его характеристик следует рассматривать в том числе и как «инструмент» духа, как инструмент и составную часть процесса познания.
Такой ум способен только лишь к построению абстрактных схем, но не способен понять изучаемый предмет в его целостности, объемности, многообразии. Полноценное познание предполагает деятельность не одного только разума, но и участия в нем всего существа человека: воли, эмоций, интуиции, органов чувств, сердца как метафизического центра человеческой личности. Наконец, и тело есть не только внешняя оболочка человека – тело в совокупности всех его характеристик следует рассматривать в том числе и как «инструмент» духа, как инструмент и составную часть процесса познания.
Знаменитый девиз Б. Спинозы: «не плакать, не смеяться, а понимать» – выражает установку научного познания на достижение такой истины, которая не допускала бы субъективизма, максимально исключала искажения, обусловленные теми или иными пристрастиями субъекта. В этом смысле изречение Спинозы справедливо для всякого познания, претендующего на истинность и общезначимость. Но трактовка познания, основанная на приведенном изречении, тем не менее страдает узостью и односторонностью. Такая трактовка характерна для философской классики, то есть для периода развития европейской философии (XVII в. – рубеж XIX–XX вв.), когда за эталонную модель познания принималась наука, основанная на принципах Ньютона – Галилея. С переходом к неклассической и постнеклассической науке изменялась и философская модель познавательного процесса.
Такая трактовка характерна для философской классики, то есть для периода развития европейской философии (XVII в. – рубеж XIX–XX вв.), когда за эталонную модель познания принималась наука, основанная на принципах Ньютона – Галилея. С переходом к неклассической и постнеклассической науке изменялась и философская модель познавательного процесса.
Следует признать, что субъект философской классики, наделенный разумом, но лишенный собственно человеческих характеристик, есть абстракция, не способная объяснить процесс познания. Даже введение в классическую трактовку процесса познания категории практики не меняет эту трактовку по существу.
Следует учесть, что никакие практические потребности не сдвинут познание с мертвой точки, не запустят механизм познания и не обеспечат его функционирование, если у субъекта отсутствует эмоциональное отношение, эмоциональный мотив, стимулирующий познавательный процесс, питающий его энергией, без которой никакая деятельность, в том числе и познавательная, невозможна. Подчеркнуто нейтральное, равнодушное, то есть безэмоциональное, отношение к миру не способно породить импульс к познанию. Познание реализуется только при условии заинтересованности субъекта, при наличии в том числе и положительно-эмоционального отношения к проблеме, – эту идею, развитую в рамках рациональной реконструкции истории науки в первую очередь такими авторами, как К. Поппер и П. Фейерабенд, следует считать одной из важнейших для современного подхода к познанию.
Подчеркнуто нейтральное, равнодушное, то есть безэмоциональное, отношение к миру не способно породить импульс к познанию. Познание реализуется только при условии заинтересованности субъекта, при наличии в том числе и положительно-эмоционального отношения к проблеме, – эту идею, развитую в рамках рациональной реконструкции истории науки в первую очередь такими авторами, как К. Поппер и П. Фейерабенд, следует считать одной из важнейших для современного подхода к познанию.
Из сказанного следует, что познание осуществимо лишь при условии эмоционально позитивного отношения человека к самому себе и к миру. Наибольшей мерой позитивности и является любовь. Ее значение для познания, таким образом, определяется тем, что любовь, формируя интерес к предмету, выступает в роли энергетического источника для функционирования сложного механизма познания, в котором человек выступает не как сугубо умственное, а как целостное существо. В едином акте познания задействуются ум, воля, эмоции, интуиция, органы чувств, сердце как метафизический центр человеческой личности, наконец, и тело, поскольку оно не есть только внешняя оболочка человека. Именно любовь и является тем фактором, который соединяет воедино различные стороны и способности человека, способствует их взаимной согласованности и общей направленности на решение определенной задачи.
Именно любовь и является тем фактором, который соединяет воедино различные стороны и способности человека, способствует их взаимной согласованности и общей направленности на решение определенной задачи.
Разумеется, неравнодушное отношение к миру, в частности к предмету познания, может возникнуть не только на основе любви, но и на основе ненависти. Ненависть, действительно, становится порой мощным стимулом к познавательной активности. Но ненависть не обладает собственным энергетическим источником, она может питаться только за счет любви. «Истощающее отрицание не оставляет места для положительного творчества», – отмечал Н. Бердяев[13]. Ненависть истощает человека в духовном, а очень часто и в самом непосредственном, физическом смысле.
«От любви до ненависти один шаг», – гласит известное изречение. Как в свете сказанного может быть истолкован его смысл? Очевидно, превращение любви в свою коренную противоположность означает, что сила, присущая любви, передается тому, что называется ненавистью. Запасы эмоциональной энергии любви приобретают противоположный знак. Ненависть жива, пока эти запасы не истощены, не израсходованы. В самом деле, бывшие любовники часто не могут даже спокойно видеть друг друга, лелеют мечту о мести, заняты «перемыванием косточек» и т. д. именно тогда, когда разрыв произошел резко и чувство еще не остыло. Любовь в действительности еще не ушла, ее эмоциональные запасы не истощены. Но если они не получают подпитки, то со временем уходит и ненависть, люди становятся равнодушными друг к другу. Не исключено, правда, что эмоциональная энергия любви может проявляться вновь и вновь, на протяжении всей жизни человека, возрождая либо ненависть, либо любовь.
Запасы эмоциональной энергии любви приобретают противоположный знак. Ненависть жива, пока эти запасы не истощены, не израсходованы. В самом деле, бывшие любовники часто не могут даже спокойно видеть друг друга, лелеют мечту о мести, заняты «перемыванием косточек» и т. д. именно тогда, когда разрыв произошел резко и чувство еще не остыло. Любовь в действительности еще не ушла, ее эмоциональные запасы не истощены. Но если они не получают подпитки, то со временем уходит и ненависть, люди становятся равнодушными друг к другу. Не исключено, правда, что эмоциональная энергия любви может проявляться вновь и вновь, на протяжении всей жизни человека, возрождая либо ненависть, либо любовь.
Таким образом, познавательное значение любви выявляется в нескольких аспектах. Во-первых, любовно-заинтересованное отношение человека к миру является стимулом познания, рождает и питает эмоциональную энергетику познавательной деятельности. Во-вторых, посредством любви в познании задействуется целостный человек, в единстве всех сторон его существа, то есть познание уже не может быть изолированной активностью ума, а выступает в качестве совокупной деятельности ума, воли, эмоций, интуиции, органов чувств, сердца как метафизического центра человеческой личности. В-третьих, любовь выступает фактором повышения продуктивности познания в связи с тем, что позволяет увидеть изучаемый предмет не только в его непосредственной данности, а в бесконечной перспективе его потенциальных возможностей.
В-третьих, любовь выступает фактором повышения продуктивности познания в связи с тем, что позволяет увидеть изучаемый предмет не только в его непосредственной данности, а в бесконечной перспективе его потенциальных возможностей.
Познавательное значение любви следует, разумеется, рассматривать в контексте ее жизненного значения: значение любви для познания есть один из многих аспектов ее значения для жизни, для человеческого бытия в мире. Несомненно, одним из важнейших видов любви, имеющих особое значение для жизни человека, является половая любовь.
Следует в первую очередь подчеркнуть, что тема половой любви не терпит ханжества и лицемерия. Конечно, желательно, чтобы взаимная любовь мужчины и женщины была прочной и долговременной, и, в самом лучшем варианте, была бы единственной, стала бы любовью на всю жизнь. Но в силу разных обстоятельств такое бывает не всегда. Как уже отмечалось, подлинная любовь – явление редкое. Впрочем, ничто действительно ценное никогда не встречается «на каждом шагу»: драгоценный металл всегда составляет очень небольшой процент, в то время как пустая порода количественно превалирует.
Отрицать права партнеров самостоятельно, по обоюдному согласию выбирать формы сексуального поведения, выступать против открытости партнеров новым формам сексуального поведения означало бы впадать в ханжество и лицемерие. Однако половая любовь, разумеется, не сводится только лишь к отношениям сексуального характера.
Половая любовь многообразна. В истории философской и религиозной мысли, в произведениях литературы и искусства выявлены, раскрыты и красочно описаны различные аспекты любви. Только в своем единстве они составляют то, что можно назвать полноценной связью между мужчиной и женщиной, основанной на согласии сердец, а не только лишь на отношениях сексуального характера. Сложный комплекс отношений, включающий в свой состав ряд аспектов любви, только и можно назвать половой любовью в подлинном или собственном смысле. Есть любовь эротическая. Это восхищение красотой, силой, совершенством. Есть любовь агапэ.Это любовь одаряющая, милосердная и сострадательная. Есть любовь каритативная (каритас). Это любовь как нежность. Есть любовь страстная. Это вожделение, стремление обладать. Эти виды любви могут существовать совместно, в составе конкретного проявления любви.
Это любовь как нежность. Есть любовь страстная. Это вожделение, стремление обладать. Эти виды любви могут существовать совместно, в составе конкретного проявления любви.
Полноценная половая любовь и есть именно то, что включает в себя все отмеченные виды любви, но не сводится только к одному, взятому изолированно от других. Конечно, она немыслима без страсти, а также без эроса. Но в ней также присутствует и момент нежности (каритас), и моменты милосердия и сострадания (агапэ). Только единство и целостность во всей совокупности названных аспектов превращают отношения между мужчиной и женщиной в то, что характеризуется как любовь. Богатство проявлений половой любви делает ее роль абсолютно незаменимой для ощущения полноты и радости жизни.
Если половая любовь сводится только к страсти, то есть к сексуальным отношениям, то единение с Другим возможно лишь на короткий момент. Партнеры по сексу часто остаются абсолютно чуждыми друг другу. Чувство одиночества может при этом даже возрасти. Если же половая любовь помимо страсти включает в себя эрос, агапэ и каритас, то в этом случае отношения любящих будут несравненно богаче и полнее. Полноценная половая любовь, включающая взаимную нежность, милосердное и сострадательное участие любящих, меняет ощущение жизни, придает ей радость цветущей полноты.
Если же половая любовь помимо страсти включает в себя эрос, агапэ и каритас, то в этом случае отношения любящих будут несравненно богаче и полнее. Полноценная половая любовь, включающая взаимную нежность, милосердное и сострадательное участие любящих, меняет ощущение жизни, придает ей радость цветущей полноты.
Сладострастие в своем обнаженном виде неизбежно переходит в разврат. Последний разрушает человеческую личность, губит человека. В образе Свидригайлова Достоевским показано перерождение, гибель личности от безудержного сладострастия, перешедшего в безудержный разврат. В основе абсолютизации сладострастия лежит представление о половом акте как унизительном для человека, греховном состоянии. Именно представление о неустранимой греховности, животности и, следовательно, запретности половых отношений составляет движущую силу сладострастия. Но такой же глубоко ложный взгляд на половые отношения может лежать и в основе строгого морализма, категорически отрицающего всякое положительное значение полового акта для межличностных отношений. При таком взгляде оправданность полового акта усматривается исключительно в деторождении. Стремление же к половому акту самому по себе, в составе комплекса отношений, с этой точки зрения есть якобы не что иное, как низменное желание удовлетворения похоти. Глубоко ошибочный взгляд на половой акт как на унизительное для человека животное состояние далеко не преодолен. Наиболее ярко этот взгляд представлен в воззрениях Л. Н. Толстого.
При таком взгляде оправданность полового акта усматривается исключительно в деторождении. Стремление же к половому акту самому по себе, в составе комплекса отношений, с этой точки зрения есть якобы не что иное, как низменное желание удовлетворения похоти. Глубоко ошибочный взгляд на половой акт как на унизительное для человека животное состояние далеко не преодолен. Наиболее ярко этот взгляд представлен в воззрениях Л. Н. Толстого.
Согласно Толстому, половая любовь вообще не имеет ничего общего с любовью как таковой, с любовью подлинной. Он писал: «Называют одним и тем же словом любовь духовную – любовь к Богу и ближнему, и любовь плотскую мужчины к женщине или женщины к мужчине. Это большая ошибка. Нет ничего общего между этими двумя чувствами. Первое – духовная любовь к богу и ближнему – есть голос Бога, второе – половая любовь между мужчиной и женщиной – голос животного»[14]. Согласно Толстому, сладострастие есть грех и грязь, проявление животности. Предаваться сладострастию возможно лишь так, как предаются тайному пороку.
Говоря об особенностях половой любви в свете присутствия в ней элемента сладострастия, следует особо обратить внимание на такие ее качества, как интимность и душевность. Что касается интимности, то она связана с общей высокой оценкой значения интимности в жизни человека. Согласно такой оценке ценность важнейших сторон человеческой жизни определяется их интимностью и может быть утрачена при выставлении напоказ. Полноценная половая любовь связана со взглядом на физические проявления любви как на то, что не предназначено для посторонних глаз. Не следует, разумеется, выставлять напоказ столь интимную сторону жизни, как сфера сексуальных отношений. Она есть прерогатива только двоих и не терпит посторонних.
Другая особенность, которая уже была упомянута, – душевность. Именно душевность отношений партнеров служит нравственным оправданием сексуальной связи. Под душевностью понимаются сопереживательность и сердечность партнеров, независимость от соображений расчета и выгоды, самостоятельность и свобода выбора, совершаемого по велению сердца. Тот, кто стремится обрести любовь, ждет от нее духовной просветленности, того, что способно одухотворить и осветить жизнь, придать ей смысл, возвышающийся над обыденностью и над практическими нуждами и потребностями. Вместе с тем полностью не исключаются и прагматические, рациональные соображения такого типа: удовлетворение сексуальной потребности необходимо во имя здоровья, продолжения рода, стабильности брака и т. п. Однако, как правило, не им отводится роль основных мотивов и двигательных пружин любовных отношений.
Тот, кто стремится обрести любовь, ждет от нее духовной просветленности, того, что способно одухотворить и осветить жизнь, придать ей смысл, возвышающийся над обыденностью и над практическими нуждами и потребностями. Вместе с тем полностью не исключаются и прагматические, рациональные соображения такого типа: удовлетворение сексуальной потребности необходимо во имя здоровья, продолжения рода, стабильности брака и т. п. Однако, как правило, не им отводится роль основных мотивов и двигательных пружин любовных отношений.
Таким образом, половая любовь – один из видов любви наряду с любовью братской, материнской, отцовской и т. д. Как и все виды любви, она связана со способностью к самопожертвованию, с душевностью, с готовностью помочь любимому человеку, выручить его в трудную минуту и т. д. Но наряду с этим в ней присутствует взаимная симпатия, основанная на взаимном притяжении мужчины и женщины. Это притяжение находит наиболее полное проявление в сексуальных отношениях. Секс является только лишь одним из элементов сложного комплекса отношений, является его необходимым, но недостаточным элементом.
В составе этого комплекса, который и есть половая любовь, секс перестает быть лишь проявлением животной природы человека. Он одухотворяется, становясь духовно-телесной близостью двух людей. Наличие чувственного, то есть непосредственного, взаимодействия с Другим дает половой любви известные преимущества перед такими видами любви, как, например, братская любовь или любовь к ближнему. Наличие чувственного контакта является условием не абстрактного понимания Другого, а восприятия его на чувственно-конкретном уровне. Поэтому по степени своей чувственной конкретности, осязательности половая любовь сопоставима с материнской любовью.
Очевидно, что особая сила материнской любви во многом связана с тем, что ребенок изначально является частью самого материнского тела, а затем длительное время находится в непосредственном чувственном, естественном, природном контакте с ним. Поэтому мать изначально в принципе, разумеется, не может воспринимать свое дитя как нечто чуждое, абстрактное. Если мать кормит ребенка грудью, держит его на руках, прижимая к своему сердцу, то между ней и ребенком устанавливается чувственно осязаемая душевно-телесная связь, два существа объединяются пронизывающими их токами теплоты и нежности. Когда ребенок становится старше, то и тогда нежное материнское прикосновение дает ему больше, чем огромное множество слов.
Если мать кормит ребенка грудью, держит его на руках, прижимая к своему сердцу, то между ней и ребенком устанавливается чувственно осязаемая душевно-телесная связь, два существа объединяются пронизывающими их токами теплоты и нежности. Когда ребенок становится старше, то и тогда нежное материнское прикосновение дает ему больше, чем огромное множество слов.
Как это ни покажется странным на первый взгляд, половая любовь если и не сродни материнской по характеру, то сродни ей по степени чувственной конкретности: посредством такой любви Другой открывается мне не только в мысли, не только через образ зрительный, но и через образ реально осязаемый. Осязательность живого тела через любовное к нему отношение благотворно влияет на всю личность человека. Только через такую осязательность можно реально преодолеть чувство одиночества, чувство оставленности. Наше желание прикоснуться к телу близкого существа есть проявление потребности в контакте с живым, чувственно воспринимаемым как близкое, живое. Никакие мертвые предметы, никакие слова, ни чтение романов, ни просмотр фильмов – ничто не обладает такой эффективностью для избавления от неприятного ощущения холода в душе, от чувства одиночества, как осязательное присутствие живого тела, воспринимаемого как родное и близкое.
Никакие мертвые предметы, никакие слова, ни чтение романов, ни просмотр фильмов – ничто не обладает такой эффективностью для избавления от неприятного ощущения холода в душе, от чувства одиночества, как осязательное присутствие живого тела, воспринимаемого как родное и близкое.
Таким образом, можно сделать принципиальный вывод: человеческая культура создала особый духовный феномен, получивший название половой любви. Человеческий гений поистине чудесным образом превратил отношения животного происхождения, служащие в животном мире исключительно целям детопроизводства, в многогранный культурный феномен, в явление подлинно человеческой культуры. Роль половой любви в жизни человека огромна и незаменима. Это связано с ее интимностью, духовно-телесной близостью двух людей, с постоянным общением с таким же, как «Я», но «Другим», по-другому устроенным человеком, с пониманием другого взгляда на мир, обусловленного иной половой психологией. Роль половой любви незаменима в преодолении одиночества, чувства оставленности. Половая любовь крайне важна в качестве источника творчества, мощного стимула к познанию и творчеству. Само ее существование основано на творческом сотрудничестве людей, поэтому она есть творческое выстраивание отношений с иным человеком при отчетливой, осязательной данности его инаковости. В силу всех своих особенностей половая любовь принадлежит к тем важнейшим и немногим факторам, которые рождают и поддерживают в нас само желание жить, саму волю к жизни.
Половая любовь крайне важна в качестве источника творчества, мощного стимула к познанию и творчеству. Само ее существование основано на творческом сотрудничестве людей, поэтому она есть творческое выстраивание отношений с иным человеком при отчетливой, осязательной данности его инаковости. В силу всех своих особенностей половая любовь принадлежит к тем важнейшим и немногим факторам, которые рождают и поддерживают в нас само желание жить, саму волю к жизни.
«Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, / Куда страшней, когда разлюбишь ты…» Это слова одной из песен, популярных в советский период. В них ярко подчеркивается важность любовного отношения к миру, к жизни, причем важность такого отношения для самого человека: тепло любви согревает не только того, кого любят, но в первую очередь – того, кто любит. Поэтому для полноценного бытия важно присутствие любви в самом существе человека, его способность любить.
Не будет преувеличением утверждать, что для отдельного человека утрата способности к любви равнозначна утрате способности жить. В общественном смысле исчезновение любви (если люди изгонят любовь из своих сердец по легкомыслию или под воздействием идей модного теоретика) приведет к физическому исчезновению данного общества, к его физическому вымиранию. Таким образом, значение любви для человеческого бытия выявляется в полном объеме только в том случае, если это бытие понято как жизнь. Речь идет о том понимании жизни, основы которого были разработаны «философией жизни», а затем развиты целым рядом направлений философии XX в.
В общественном смысле исчезновение любви (если люди изгонят любовь из своих сердец по легкомыслию или под воздействием идей модного теоретика) приведет к физическому исчезновению данного общества, к его физическому вымиранию. Таким образом, значение любви для человеческого бытия выявляется в полном объеме только в том случае, если это бытие понято как жизнь. Речь идет о том понимании жизни, основы которого были разработаны «философией жизни», а затем развиты целым рядом направлений философии XX в.
Главная особенность философского понятия жизни состоит в том, что в нем заключено многомерное единство биологической, культурно-исторической и идеально-духовной реальности. Жизнь – это непредсказуемость, порыв, стихийный поток, внутренняя свобода, творчество, цветущая полнота жизни. Жизнь как особая реальность неоднозначна, поэтому часто находит свое выражение не столько в понятийной, сколько в художественной, символической или метафорической форме. Вместе с тем жизнь – отнюдь не хаос, напротив, жизнь противопоставлена хаосу, поскольку она есть способность к самоорганизации, есть самоорганизованная целостность, богатство многообразия в его единстве.
Жизнь есть нечто свободное, живое, а не функционирующее по законам и формулам, она не является чем-то оцепеневшим, мертвым. Всякая же формула, всякий научный закон построены на искусственном омертвении жизни, на условном исключении из нее непредсказуемости и свободы. Жизнь противостоит всему надуманному, искусственному, «вымученному», механическому. Ее тщетно пытаться загнать в рамки искусственных схем и определений. Но именно это и пыталась сделать ориентированная на науку рационалистическая западная философия классического периода. Поэтому выдвижение на передний план понятия жизни есть сознательный вызов ориентированной главным образом на классическую науку западноевропейской философии XVII–XIX вв., точнее, присущей ей абсолютизации рациональности классического типа.
Вопреки приведенному выше изречению Спинозы реальный человек непременно «плачет и смеется», а главное – любит, познает, созидает, а значит, живет. Живет не только и даже не столько жизнью биологической, а жизнью во всей полноте и многообразии ее проявлений, которое и фиксируется в философском понятии жизни. В отсутствие любви бытие человека и социально-историческая реальность в целом прекратят свое существование в качестве формы жизни. Общественные отношения, начисто лишенные любви, элементов межличностной симпатии, выродятся либо в лишенный всякого порядка хаос, либо в нечто механическое и бездушное, в котором человеку будет отведено лишь место безликого винтика общественного целого.
В отсутствие любви бытие человека и социально-историческая реальность в целом прекратят свое существование в качестве формы жизни. Общественные отношения, начисто лишенные любви, элементов межличностной симпатии, выродятся либо в лишенный всякого порядка хаос, либо в нечто механическое и бездушное, в котором человеку будет отведено лишь место безликого винтика общественного целого.
Очевидно, что отношение к человеческой жизни как к ценности высшего порядка вообще представляет собой один из краеугольных камней, лежащих в основе общественной жизни. Утрата отношения к жизни человека как к ценности чревата самыми серьезными последствиями. Такая утрата есть явление, названное Э. Фроммом «некрофилией» – патологическим стремлением к разрушению жизни[15].
Однако рассмотрение общества в качестве формы жизни предполагает также ценностное отношение и к тем общественным связям и отношениям, которые определяют целостность, самоорганизацию и развитие общественной жизни.
Чтобы «произвести» ребенка, достаточно отношений сексуального характера. Но выходить его, защищать и оберегать, воспитывать – без любви невозможно. Поэтому рискну утверждать, что любовь составляет самую сердцевину жизни – жизни общества и человека как биологического и социально-культурного существа. Отсутствие любви равнозначно прекращению жизни, прекращению человеческой истории как социально-культурной преемственности поколений. Возвышая человека над животным царством, любовь вместе с тем соединяет человека со всем живым, с тем, чье существование есть жизнь.
Но выходить его, защищать и оберегать, воспитывать – без любви невозможно. Поэтому рискну утверждать, что любовь составляет самую сердцевину жизни – жизни общества и человека как биологического и социально-культурного существа. Отсутствие любви равнозначно прекращению жизни, прекращению человеческой истории как социально-культурной преемственности поколений. Возвышая человека над животным царством, любовь вместе с тем соединяет человека со всем живым, с тем, чье существование есть жизнь.
[1] Фромм, Э. Иметь или быть? – М., 1990. – С. 52–53.
[2] Там же. – с. 53.
[3] Франк, С. Л. Смысл жизни // Вопросы философии. – 1990. – № 6. – С. 40.
[4] См.: Гидденс, Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах / пер. с англ. В. Анурина. – СПб.: Питер, 2004.
[5] Апресян, Р. Г. Идеал романтической любви в «постромантическую эпоху» // Этическая мысль. – Вып. 4. – М.: ИФ РАН, 2003. – С. 51.
– Вып. 4. – М.: ИФ РАН, 2003. – С. 51.
[6] Апресян, Р. Г. Указ. соч. – С. 49.
[7] Цит. по: Голод, С. И. XX век и тенденции сексуальных отношений в России. – СПб., 1996. – С. 22–23.
8 Лернер, М. Развитие цивилизации в Америке: в 2 т. – М., 1992. – Т. 2. – С. 175.
9 Шаповалов, В. Ф. Любить по-русски. Особенности российской сексуальной культуры // Общественные науки и современность. – 2007. – № 2. – С. 163–172.
[10] Лернер, М. Указ. соч. – с. 181.
[11] Бердяев, Н. О Достоевском // Эрос. Страсти человеческие / сост. П. С. Гуревич. – М., 1998. – С. 86–87.
[12] Цит. по: Гулыга, А. В. Философия любви / В. С. Соловьев // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1990. – Т. 1. – С. 34.
[13] Бердяев, Н. А. Смысл истории. – М., 1990. – С. 134.
– М., 1990. – С. 134.
[14] Толстой, Л. Н. Путь жизни. – М., 1993. – С. 96.
[15] Fromm, E. The аnatomy of human destructiveness. – N.-Y., 1973. – P. 120–124.
100 секретов счастливой любви: для всех возрастов, на все времена читать онлайн — Константин Шереметьев (Страница 3)
Возвышенность чувства
Другим свойством чувства является его возвышенность. Предположим, что у вас где-то что-то сильно зачесалось. Вы тут же начинаете остервенело скрести это место, ощущая при этом некоторое удовольствие, которое однако смешано с неприятным чувством зуда. В данном случае, хотя сила чувства может быть и велика, но удовольствие здесь смешано с неудовольствием. Вам и приятно, и неприятно одновременно.
Все физиологические ощущения в основном связаны со снятием напряжения. Вы чувствуете некоторое напряжение (голод, жажду или наоборот), и вам нужно это напряжение снять. При попытке усилить испытываемое напряжение (например, подольше не ходить в туалет) вы получите одновременно и некоторое повышение удовольствия, и некоторое повышение неприятных чувств. Возникает рассогласование чувств. Такие чувства мы будем называть низменными.
При попытке усилить испытываемое напряжение (например, подольше не ходить в туалет) вы получите одновременно и некоторое повышение удовольствия, и некоторое повышение неприятных чувств. Возникает рассогласование чувств. Такие чувства мы будем называть низменными.
В то же время, слушая прекрасную музыку, вы можете настолько слиться с ней, что полностью забудете об окружающем мире, и ваша душа оторвется от земли и полетит все выше и выше.
В этом чувстве уже участвует весь мозг. Если в этот момент снять его энцефалограмму, то будет видно, что все отделы вашего мозга работают в едином ритме, в единой гармонии, они согласованны. Именно на этом основаны магические свойства музыки.
Если ваш мозг целиком испытывает некоторое чувство, то это возвышенное чувство. Именно возвышенные чувства и составляют основу счастья.
Для выстраивания возвышенных чувств вы должны следить за тем, чтобы ни одна мелочь не вызывала у вас раздражения или злости.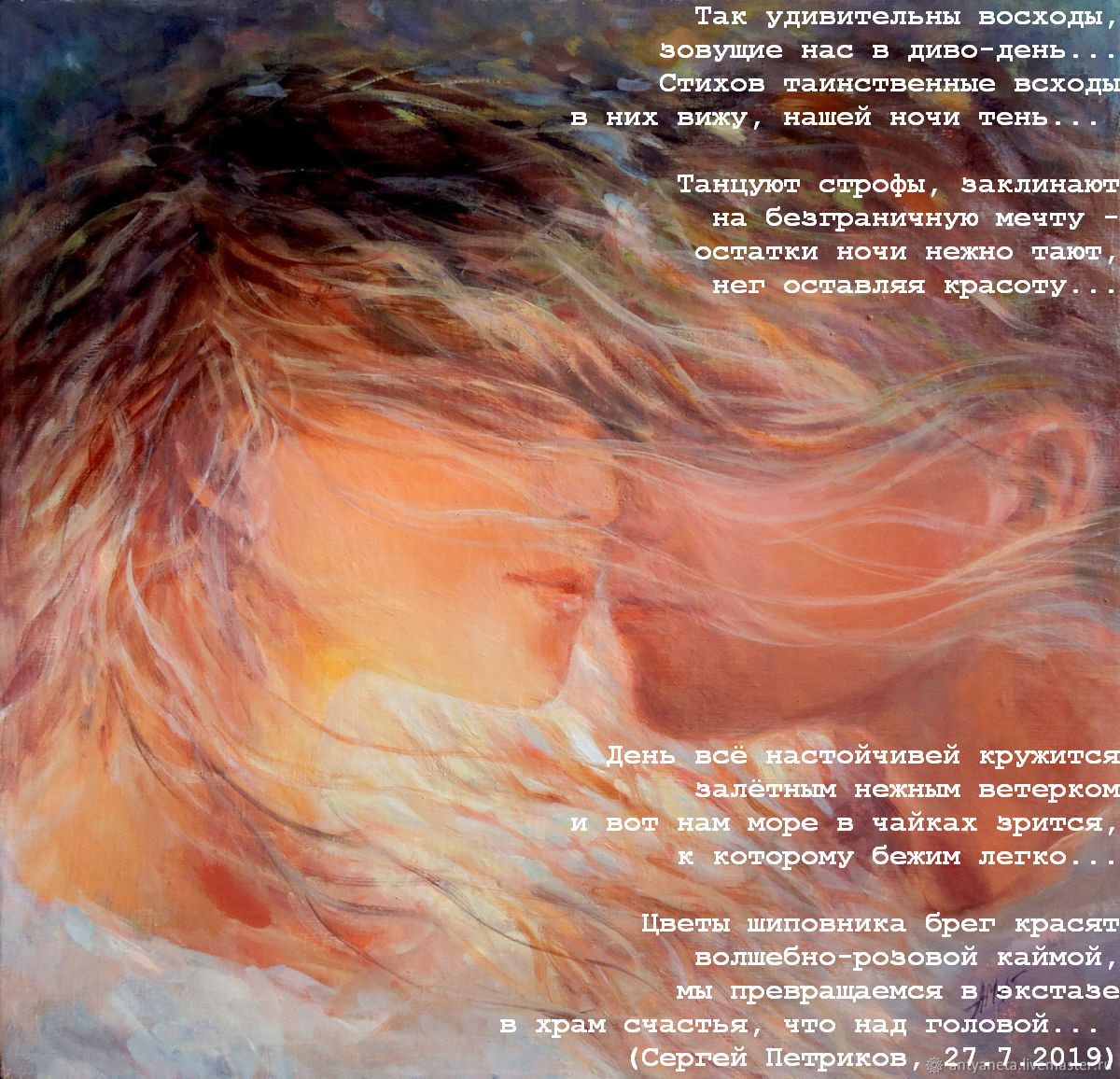 Например, если вы узнаете о какой-либо удаче человека и испытываете к нему зависть, то у вас одновременно запускаются мечты (приятные) о таком же успехе и осознание (неприятное) того, что у вас этого успеха нет. Налицо рассогласование, то есть низменность чувств. Далее к этому добавляется злоба на этого человека (черная зависть), а заодно и злоба на себя (чувство неполноценности). В этом случае вас можно только пожалеть. Низменные чувства делают счастье в вашей жизни невозможным. Поэтому лучше всего сразу вырывать с корнем малейшие ростки рассогласованных чувств.
Например, если вы узнаете о какой-либо удаче человека и испытываете к нему зависть, то у вас одновременно запускаются мечты (приятные) о таком же успехе и осознание (неприятное) того, что у вас этого успеха нет. Налицо рассогласование, то есть низменность чувств. Далее к этому добавляется злоба на этого человека (черная зависть), а заодно и злоба на себя (чувство неполноценности). В этом случае вас можно только пожалеть. Низменные чувства делают счастье в вашей жизни невозможным. Поэтому лучше всего сразу вырывать с корнем малейшие ростки рассогласованных чувств.
Другим следствием частого переживания низменных чувств является появление множества болезней. Рассогласованный мозг посылает рассогласованные сигналы своему организму, иммунной системе, эндокринной системе. Пытаясь одновременно следовать двум противоположным командам, внутренние органы прекращают нормальное функционирование. В результате к вам подбираются настолько страшные болезни, что ваша жизнь может стать адом.
Чтобы проще запомнить эти определения, повторяйте про себя: «Возвышенное чувство — когда душа поет, низменное чувство — когда пятка чешется».
Счастливая любовь
Теперь вы можете не просто произнести такие приятные слова, как «счастливая любовь», но и понять, как именно ее достичь.
Счастливая любовь — это переживание сильных и возвышенных любовных чувств.
Чем чаще вы эти чувства испытываете, тем больше в вашей жизни счастья.
Для того чтобы ваша любовь была счастливой, нужно постоянно хранить ее в себе и растить так заботливо, как цветовод ухаживает за своими цветами. Но цветоводу нужны определенные знания, иначе его цветы засохнут и заболеют. Как ухаживать за своей любовью, вы и узнаете из этой книги.
…Еще раз самое важное
Повторим те моменты, которые следует запомнить.
1. Источниками чувств являются:
• потребности организма;
• социальный статус;
• отношение к себе.
2. Чувства характеризуются силой и возвышенностью.
Сила чувства рождается от величины трудностей, которые человеку приходится преодолевать. Возвышенность чувств рождается от согласованности работы отделов мозга.
3. Счастье — это переживание сильных и возвышенных чувств.
Попробуем применить эти знания на практике. В начале этой главы мы задали два вопроса. Почему на одном свидании все было как в тумане, а на другом не обрадовал даже поцелуй. Теперь мы уже можем ответить на эти вопросы.
На одном свидании — очевидно, первом — результат был непредсказуемым, и каждый шаг навстречу требовал определенного мужества, поэтому и чувства от удачи были весьма сильными.
Во втором случае, видимо, до начала свидания партнеры были чем-то озабочены, а их отношения стали рутиной, поэтому чувства и отсутствовали.
Глава 3. Чужая душа — потемки?
Девушка идет на день рождения к подруге и знакомится с молодым человеком. Он просто идеал во плоти и мечта ее девичьих грез. Они танцуют весь вечер, и он приглашает ее на свидание. Чего ждать от него и от этого свидания?
Они танцуют весь вечер, и он приглашает ее на свидание. Чего ждать от него и от этого свидания?
Эта ситуация достаточно типична. Как понять, что представляет собой человек, чем он живет, как себя с ним вести? В этой главе мы рассмотрим, как анализировать своего партнера и каких чувств ждать от него.
Понимание человека
Люди очень мало внимания обращают друг на друга. Поэтому все время сталкиваются с непониманием.
Однако мир любовных переживаний является самой интимной стороной человеческой жизни, поэтому чаще всего люди испытывают разочарование, если, столкнувшись с человеком поближе, не находят в нем того, что сами же ему и приписали.
Разочарование далеко не самое приятное чувство, поэтому лучше хорошо узнать партнера до того, как переходить к более интимному общению. Нас интересует самый общий анализ, касающийся того, как поведет себя человек в любовных отношениях.
Анализ состоит из двух этапов. Сначала мы должны научиться понимать, что из себя человек представляет в целом, а затем мы должны проанализировать, как он может себя повести в конкретной ситуации.
Начнем мы со второго, то есть с конкретной ситуации, так как первое знакомство всегда протекает в обстановке отсутствия информации. Затем, если человек понравился, уже можно знакомиться с ним детальнее, но это мы рассмотрим позже.
Если вы видите человека первый раз (и при этом он вам нравится или вы ему понравились), и он начинает оказывать знаки внимания, то сначала определите, что за чувство вы к нему испытываете. Это очень важно, потому что если вы неправильно определите, какое это чувство, то неправильно себя поведете, и неприятные переживания вам гарантированы.
Признаки страсти
Проще всего определить, что человек испытывает страсть. Природа устроила тело человека так, что каждый орган выполняет несколько функций: например, мышцы при сокращении не только выполняют физическую работу, но и помогают сердцу качать кровь. Почки не только выводят из организма вредные вещества, но и поддерживают требуемый солевой баланс в крови и так далее. Для управления целостными реакциями организма существуют гормоны. Гормоны заведуют всей жизнью организма. Если человек испытывает злость и агрессию, то в кровь выбрасывается множество гормонов, которые повышают давление, увеличивают свертываемость крови, повышают силу мышц, увеличивают частоту дыхания.
Все эти процессы необходимы для того, чтобы повысить силы организма в предстоящей схватке.
Если же гормонов в крови мало, то человек испытывает вялость, сонливость, лень и полное нежелание напрягаться.
Так как для продолжения рода необходим секс, то наиболее сильный выброс гормонов происходит именно в момент сексуального возбуждения. Те животные, которые вяло реагировали на сексуальные стимулы, уже вымерли, а мы на каждый сексуальный стимул просто взрываем маленькую гормональную бомбочку. А большой сексуальный стимул мы так и называем — «секс-бомба».
В результате, каждый человек при сильном сексуальном возбуждении одновременно получает возбуждение всех систем организма. У него напрягаются мышцы, учащается пульс, усиливается дыхание. Он оживляется, плечи расправляются, тело для него становится невесомым, он готов прыгать и визжать от радости.
Именно эти признаки и являются первыми признаками страсти.
Если женщина увидела, что мужчина при взгляде на нее развернул плечи, она может быть уверена, что этот мужчина оценил ее как женщину. Если он бешено завертелся вокруг нее, подхватил ее на руки или полез по лестнице на десятый этаж, то это оно — страстное чувство.
Женщина в порыве страсти становится стройнее и легче. Ей хочется танцевать, флиртовать, хохотать.
Однако главным отличием страсти от простого физического возбуждения, например от игры в волейбол на свежем воздухе, является его направленность.
Страсть — это прикосновение.
Главной целью страсти является прикосновение к тому объекту, который страсть вызывает. Человека тянет к прикосновениям, поглаживаниям, ласкам, петтингу и, наконец, к фрикциям. Одежда партнера для него является только помехой, ему хочется сорвать ее и прижаться к обнаженному телу.
Чем большую страсть человек испытывает, тем более он нежен и одновременно тем более настойчивы его ласки. Сначала он пытается просто приблизиться к тому человеку, который его сексуально привлекает, затем коснуться руки или даже кончика одежды, но его тянет все дальше и дальше, к объятиям, поцелуям, ласкам.
Одновременно крошечный и огромный: что это за чувство, которое мы называем «возвышенным»?
Вы когда-нибудь испытывали трепет и возбуждение, созерцая вид на зубчатые заснеженные горы? Или были очарованы, но также немного встревожены, глядя на грозовой водопад, такой как Ниагара? Или чувствовал себя экзистенциально незначительным, но странно возвышенным, глядя на ясное звездное ночное небо? Если это так, то вы испытали то, что философы с середины 18 века до наших дней называют возвышенным.Это эстетический опыт, о котором часто теоретизируют современные западные философы, а в последнее время — экспериментальные психологи и нейробиологи в области нейроэстетики.
Ответы на возвышенное озадачивают. В то время как в XVIII веке «прекрасное» рассматривалось как полностью приятное переживание типично тонких, гармоничных, сбалансированных, гладких и отполированных предметов, возвышенное понималось в основном как его противоположность: смесь боли и удовольствия, испытываемая в присутствии типично обширных , бесформенные, угрожающие, подавляющие природные среды или явления.Так, философ Эдмунд Берк в 1756 году описывает возвышенное удовольствие в оксюморонических терминах как «восхитительный ужас» и «своего рода спокойствие с оттенком ужаса». Иммануил Кант в 1790 году описывает это как «отрицательное», а не «положительное удовольствие», в котором «ум не просто привлекается объектом, но также всегда отталкивается им». Стало проблемой объяснить, почему возвышенное в целом следует переживать с положительным аффектом и ценить так высоко, учитывая, что оно также включает в себя элемент боли.Чувство парадокса углубляется представлением о том, что переживание возвышенного на самом деле более глубокое и удовлетворительное, чем переживание прекрасного. Некоторые считают, что такие возвышенные эстетические переживания составляют религиозные или духовные переживания Бога или «нуминозной» реальности.
Есть два типа реакции на возвышенное: то, что я называю «тонким» и «толстым» возвышенным. Психологический взгляд Берка понимает возвышенное как немедленное аффективное возбуждение, которое не является высокоинтеллектуальной эстетической реакцией.Это «тонкое возвышенное». Кант и Артур Шопенгауэр тем временем предлагают трансцендентные отчеты, то есть отчеты, предполагающие универсальные когнитивные способности, и понимают возвышенное как эмоциональную реакцию, в которой интеллектуальное размышление об идеях, особенно о месте человечества в природе, играет значительную роль. Это «густое возвышенное».
Тонкое возвышенное, таким образом, сродни немедленной реакции благоговения, и эта голая когнитивная оценка, которая ошеломляет и подавляет оценивающего, вполне может быть первым моментом во всех возвышенных эстетических реакциях.Но когда кто-то задерживается в этом переживании благоговения и ум начинает размышлять об особенностях внушающего страх ландшафта или явления и о том, как они заставляют человека чувствовать, тогда это когнитивно-эмоциональное взаимодействие представляет собой плотное возвышенное переживание.
Почему так важны такие возвышенные переживания? Для Берка переживание имеет значение, поскольку это «самая сильная эмоция, которую способен ощутить разум». Но для Канта и Шопенгауэра этот опыт еще глубже. Вот как Кант описывает переживание и значение того, что он называет динамически возвышенным (то есть эстетическим переживанием подавляющей силы):
Смелые, нависающие, как бы грозные скалы, вздымающиеся в небеса грозовые тучи… превращают нашу способность сопротивляться в ничтожную мелочь по сравнению с их мощью.Но их вид становится тем привлекательнее, чем страшнее это, пока мы находимся в безопасности, и мы с радостью называем эти объекты возвышенными , потому что они поднимают силу нашей души выше ее обычного уровня и позволяют нам открыть в себе способность сопротивляться совершенно иного рода, , которая дает нам смелость сравнивать себя с кажущейся всемогущей силой природы. (Курсив наш.)
По Канту, это переживание непреодолимой силы природы побуждает нас осознать, что мы слабы и экзистенциально незначительны в великой схеме природы.И все же это также показывает, что мы трансцендируем природу как моральные агенты и систематические познающие. Поскольку мы морально свободные существа, способные систематически постигать природу, мы в некотором смысле независимы от природы и превосходим ее.
Для Шопенгауэра также объекты эстетического созерцания в чувстве возвышенного несут ‘враждебное отношение к человеческой воле вообще (как она представляет себя в своей объектности, человеческом теле) и противостоят ей, угрожая ей высшей силой который подавляет всякое сопротивление или сводит его к нулю с его огромными размерами ».Но возвышенное удовольствие возникает, когда человек способен достичь спокойного созерцания объекта или окружающей среды, несмотря на то, что это кажется угрозой для физического или психологического благополучия человека.
В качестве примера высокой степени математически возвышенного (переживание природы столь же обширно), например, Шопенгауэр пишет:
Когда мы теряемся в созерцании бесконечной протяженности мира в пространстве и времени… тогда мы чувствуем себя сведенными к нулю, чувствуем себя индивидуальностями, живыми телами, временными проявлениями воли, подобными каплям в океане , таять, таять в никуда .Но в то же время … наше непосредственное сознание [состоит] в том, что все эти миры на самом деле существуют только в нашем представлении … Величина мира, которая раньше казалась нам тревожной, теперь надежно закреплена внутри нас … она появляется только как ощущение осознание того, что мы в некотором смысле (что ясно дает понять только философия) едины с миром и, таким образом, не понижены, а, скорее, вознесены его необъятностью .
Здесь у нас есть отчет о возвышенном опыте, который колеблется между чувством, сведенным к нулю по сравнению с огромным пространственным и временным пространством природы, и затем чувством возвышения с помощью двух мыслей, «которые проясняет только философия».Во-первых, это мысль о том, что как познающие, мыслящие субъекты мы в некотором смысле создаем (поддерживаем, конструируем) наш собственный мир — как бы вторую природу — мир нашего собственного субъективного опыта. И вторая возвышающая мысль состоит в том, что мы в некотором смысле «едины с миром», и, будучи объединенными с природой во всей ее временной и пространственной необъятности, мы «не угнетены, но превознесены ее необъятностью»
.Источник удовольствия от возвышенных переживаний проистекает, согласно Канту, из признания нашей способности к моральному и теоретическому превосходству простой природы, а у Шопенгауэра — из размышлений о двойной природе самих себя.С одной стороны, у нас есть сила как познающие субъекты — мы творцы мира, мира субъективного опыта; и, с другой стороны, опыт интуитивно показывает, что мы, по сути, действительно едины со всей природой. Безмерность природы — это наша необъятность; его кажущаяся бесконечность — тоже наша бесконечность.
Являются ли рассказы Канта и Шопенгауэра пережитками более метафизической эпохи? Нет. Наша лучшая наука не развенчивает наш трепет перед звездным ночным небом или бескрайними океанскими просторами.Наука также не визуализирует окружающую среду, такую как вулканические горы, штормы на море, мощные каскады или просторы пустыни, без угрозы. Научное понимание углубляет наше чувство трепета и удивления перед этими средами и явлениями, а также нашей человеческой природой внутри и по отношению к ним. Когда мы обращаем внимание на эти внушающие трепет и / или физически опасные виды мест с эстетической точки зрения — то есть, если мы обращаем внимание на эти среды ради самих себя и с некоторой оценочной дистанции — они могут вызвать игру идей о место человека в природе и силы по отношению к ней.
Такие мысли естественны для людей и уважаемы с научной точки зрения. Для некоторых они представляют собой парадоксальное чувство единения с миром, а не дома; чувствовать себя одновременно смехотворно маленьким и незначительным в великой схеме и, тем не менее, мощным центром знания, свободы и ценностей в мире.
Возвышенное и прекрасное — Хроники любви и обиды
Эта неуловимая эстетическая концепция, восходящая к «Перигипсу» псевдолонгина, обычно относящемуся к первому веку нашей эры, часто кажется частью престижа его референты.Слово красивый , особенно применительно к женщинам, может доставить вам неприятности и, в лучшем случае, заставляет вас походить на возврат к 19 -му веку; но назовите что-либо «возвышенным», и на самом деле не имеет значения, экскременты это на статуе Богородицы или огромная многомиллионная версия фигуры из воздушного шара, вы станете отмечены трансцендентностью, или, скажем так, круто . Таким образом, мое раздражение по поводу этого разговора вкупе с моей большой страстью к красоте заставили меня дистанцироваться от этой концепции, довольствуясь утверждением, что те, начиная с Эдмунда Берка, противопоставляли возвышенное прекрасному более или менее как мужское. женское начало — единственная область, в которой патриархат все еще сохраняет свое неоспоримое господство — неправильно понимает величие самой красоты.Но это утверждение, хотя и не неверное, явно неполное. Что бы ни думали об апостолах возвышенности, необходимо четко сформулировать концепции прекрасного и возвышенного; Сказать, что прекрасное само по себе возвышенно, не говорит нам, как выполнять эту артикуляцию, или что делать с категориями возвышенного Беркана / Канта, которые не имеют четкого отношения к прекрасному. Этот пробел в первоначальной эстетике необходимо восполнить.
Наиболее полезное определение возвышенного — это эмоция / ощущение, которое сопровождает переживание трансцендентности или, проще говоря, священного , понимаемого как переживание не только , участвующего в , но и , порождающего трансцендентность , или другими словами, вспоминая исходное событие.Первоначальная эмоция, сопровождавшая изобретение / открытие трансценденции, была эмоцией освобождения от возможности взаимного уничтожения в сочетании с почтением и негодованием к священному центральному объекту, позволившему это облегчение. Объект общего аппетита внезапно населяется «возвышенной» концентрацией желаний сообщества, и это влияет на наш переход от животного к человеку.
Первоначальный анализ позволяет нам понять как привилегию возвышенного по отношению к прекрасному, так и его большую уязвимость для эксплуатации, как теоретической концепции, так и в ее практических проявлениях.Исходный центральный объект должен быть прежде всего объектом аппетита; он привлекателен сам по себе, а первоначальная конфигурация только усиливает эту привлекательность. Но в момент излучения знака мы осознаем это притяжение только как источник запрета ; сам центр отталкивает тех, кто его ищет. Именно этот первый момент человеческой культуры дает изначальную модель возвышенного. Миметическая энергия группы, сконцентрированная на центральном объекте, как бы отражается этим объектом на участников как отталкивающая сила.Как переживание момента запрета, возвышенное связано с потенциалом объекта к насилию, а не с его аппетитной привлекательностью.
Эдмунд Берк проясняет связь между возвышенным и изначальным запретом, описывая его характерный аффект не как удовольствия , которое он ассоциирует с прекрасным, а как то, что он называет восторгом , которое он определяет как избегание боли. Излишне говорить, что Берк не приписывает источник этой потенциальной боли толпе линчевателей жирардианцев, но наш генеративный анализ просто делает более антропологически скупыми фундаментальные аффективные отношения, которые интуитивно предполагает Берк.
Как только начальный момент запрета устанавливает сакральность центрального объекта, участники могут снова обратить внимание на него в его недавно защищенном состоянии, чтобы оценить его привлекательные качества. Именно в этот момент мы можем говорить о происхождении прекрасного . Знак в обозначении / представлении объекта стимулирует воображаемое построение его как желательного, которое в нашей знакомой колебательной модели постоянно возвращается к знаку для подкрепления.Этот воображаемый объект должен подвергаться запрету , а не именно из-за его воображаемой природы. Это настоящая область эстетики , где колебания между представлением и воображаемым удовольствием исключают аппетитное удовлетворение.
Работы, конечно, не дадут надежды на такое удовлетворение. Если мы возьмем в качестве предельного случая женскую красоту, то именно здесь мы должны вспомнить, что изначальное состояние прекрасного было возвышенным запретом объекта.Восхищаться красотой женщины — значит делать это под этим запретом, а называть женщину красивой — значит признавать, что ее красота такова, что кажется, что она запрещает половое взаимодействие и, следовательно, проявляется как знак самого себя. Иными словами, аура запрета, которую создает красивая женщина лично, делает ее появление для нас не столь уж отличным от ауры фотографий, видео и т. Д., Которые воспроизводят ее красоту.
Но мы должны помнить, что в исходном случае внимание к аппетитным качествам объекта является в то же время подготовкой к его ассимиляции в спарагмосе, а «естественная красота» является признаком аппетитно-желательного, сексуального, пищевого или другое, которое красивый знак не может защитить от возможного присвоения.И так же, как изначальный священный объект сам становится объектом спарагмоса, так и красивая женщина вполне может привлечь то, что в генеративном контексте можно было бы назвать попытками «присвоения».
Таким образом, в возвышенный момент изначальный объект бросает вызов присвоению не только через посредничество других членов группы, но сам по себе ; его сакральная аура препятствует желанию, и этот эффект позже будет воплощен в виде «мужских» объектов, которые не смогли бы привлечь его в отсутствие других людей.Красивый объект, который возникает в тот момент, когда аппетитные качества исходного объекта снова становятся видимыми, и который в исходном событии подготавливает спарагмосов , запрещен только его формальным отделением от жизненного мира, который позже будет фигурирует аркой авансцены или рамой картины.
В то время как в исходном событии возвышенное и прекрасное являются качествами одного и того же объекта в разные моменты, в историческом опыте человечества такие термины, как возвышенное и прекрасное , применяются к ощущениям , которые зависят от воспроизведения какого-либо аспекта или «момента» исходного события, так что эти качества привязываются к «специализированным» объектам, которые соответственно вызывают возвышенные и прекрасные переживания в целом, а не только в конкретный момент процесса.Это образец человеческой культуры в целом; «Функция» исходного события состоит не в том, чтобы просто бесконечно повторяться, но в том, чтобы позволить расширение человеческой деятельности на все новые области, где моменты исходного события достигают относительной автономии. Что, в противоположном смысле, объясняет полезность первоначального анализа, который предоставляет правдоподобные средства восстановления исторической деятельности до их изначального корня.
Таким образом, представления о возвышенном и прекрасном являются архетипами расширения / расширения священного в «культурное», минимальной отправной точкой которого является бинарность сакрального и профанного по Дюркгейму.Как только существует то, что мы можем назвать священным, неизбежно, антропологически, если не логически, «ощущение», создаваемое таким образом, становится независимым от конкретной конфигурации, в которой оно было изначально порождено, и становится функциональным в регулировании как частного, так и общественного. опыты. Однако вспомнить, как и псевдо-Лонгин, связь между «возвышенным» чувством священного и тем, что создается произведениями искусства, не создает явного контраста с «прекрасным» для греческого kalon-kagathon [красиво-и-хорошо] отличается от современного представления о прекрасном как обособленное от других культурных ценностей.Смысл этого трактата состоит не в том, чтобы противопоставить возвышенное какому-либо другому качеству, а просто в продвижении возвышенности, переживания трансцендентности как критерия эстетического суждения.
Современное представление о возвышенном в отличие от прекрасного было открыто Бёрком, но тот факт, что он противостоит концепциям по аналогии полов, показывает, что это не само противопоставление, которое уже присутствует в (лирических) предпочтениях Сафо. для ее женского возлюбленного над мужскими воинами эпоса, но его расширение от тематики до типологии вдохновленного искусством опыта , что является новым и значительным.Выбор различных архетипов как представителей возвышенного, с одной стороны, и красоты, с другой, отражает появление сценического воображения как нового локуса, по которому можно судить об опыте. Удвоение отношения к сцене репрезентации, которое я описал как характерное для неоклассической или постклассической эпохи и которое видно в таких явлениях, как «пьесы в пьесах» Шекспира, позволяет содержанию самой внутренней сцены быть изученным, в отличие от объектов, которые представляет собой это содержимое.
Кант улавливает и углубляет возвышенно-красивое отличие Берка. Прекрасный Канта , который, что важно, он рассматривает перед возвышенным, раскрывает свободу его (живого) объекта превосходить его представления, в отличие от калон-кагатон , для которого представление само по себе трансцендентно по сравнению с моделью Платоническая идея. Чтобы изобрести типичный кантовский пример, по моему «вкусовому суждению», я чувствую, что — это дерево в асимметричном движении его ветвей, тепле его зелени и т. Д.и т. д., прекрасна «без понятия»: что-то в нем выходит за рамки простого слова или Verstand — концепции tree , чтобы коснуться меня как товарища, свободного живого существа. И все же «свобода» и даже «жизнь» являются характеристиками неконтролируемости существа и, следовательно, его способности к насилию. Несомненно, мы не можем рассматривать это дерево как активизирующее такой потенциал. Вместо этого эта живая свобода обращена к воспитанию, обида превращается в любовь — то, что мы вполне разумно связываем с женско-материнской стороной гендерного разделения.Возвышенное же, напротив, открыто угрожает. Но если Кант предпочитает отдавать прекрасное почетное место, то это потому, что его демонстрация свободы , которая включает возможности обоих «полов», является для него более уместным признаком трансценденции, чем ее потенциальное насилие. В самом деле, несмотря на бессистемную организацию трактата Берка, его интуиция относительно относительной значимости возвышенного и прекрасного отражает гораздо более ясную интуицию роли отсрочки насилия в конституции человеческого общества, чем у Канта, за счет меньшего, чем у Канта. озабоченность различием между реальным и трансцендентальным, которое Кант доводит до максимального предела в рамках метафизического мышления прозрачного языка высказываний.
Переходя к романтической эпохе, возвышенность Виктора Гюго, представленная в его знаменитом «Préface de Cromwell » 1827 года, никогда не противоречит прекрасному в манере Берка; это скорее модификация , современная модификация , соприкасающаяся и контрастирующая с гротескным, прекрасным, которое, в свою очередь, отнесено к категории классического искусства.
la Muse moderne. . . sentira que tout dans la création n’est pas humainement beau, que le lay y existe à côté du beau, le diffforme près du gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l’ombre avec la lumière.
[современная муза. . . будет чувствовать, что не все в творении прекрасно по-человечески, что уродливое существует рядом с прекрасным, деформированное / деформированное рядом с изящным, гротеск по другую сторону возвышенного, зло с добром, тень со светом.]
le contact du diffforme a donné au sublime moderne quelque выбрал de plus pur, de plus grand, de plus sublime enfin que le beau antik
[соприкосновение с деформированным дало современному возвышенному нечто более чистое, грандиозное, одним словом, более возвышенное, чем древний (идеал) красоты]
Действительно, трудно найти единственное упоминание о термине sublime в тексте Гюго, если бы он не сопровождался в пределах предложения, самое большее, словом гротеск или одним из его синонимов.Поскольку возвышенное является антитезой гротеску, в противоположной эстетике Гюго гротеску суждено раствориться в нем, поскольку сатана и Иисус сливаются в свете Бога в конце самого длинного стихотворения «Ce que dit la bouche d’ombre». из Созерцания (книга 6). Здесь свет должен стать настолько интенсивным, чтобы поглотить гротеск, чтобы он терял конкретную форму , необходимую для создания чувства прекрасного. Точно так же «возвышенные» моменты театра и романов Гюго привносят в мирские ситуации нотку трансцендентности, как правило, в форме жертвенного жеста, в котором персонаж показывает свою готовность пожертвовать своей жизнью ради своей чести, тем самым демонстрируя несостоятельность сюжет, содержащий бесконечную субъективность своих романтических персонажей.
Фактически, в эстетике Гюго сама конечная форма отождествляется с ограничением и, следовательно, с гротеском; все прекрасное поглощается возвышенным. И хотя в отличие от Берка, Хьюго не связывает возвышенное с отложенным насилием, его примирительная роль, как в только что упомянутом стихотворении, тем не менее важна. В романтической эстетике заботливой формы прекрасного недостаточно, чтобы справиться с угрозой, исходящей от гротеска, который сам по себе лучше всего понимается просто как «момент» возвышенного.Даже женское начало поглощено этой диалектикой; Лукреция Борджиа из Хьюго — прародительница Никиты, Лары Крофт, Невесты Убить Билла, и других жестоких героинь нашей эпохи. Ибо, несмотря на отсутствие у Гюго философской изысканности, мы должны признать, что именно его видение возвышенного и, по умолчанию, прекрасного доминировало в эстетике модерна и постмодерна.
Если я сохраняю симпатию к прекрасному и некоторую антипатию к возвышенному, то это, несомненно, результат моей романтической склонности в Бронксе к лирической сцене как к простейшей и наиболее личной модели первоначального события.Как я уже повторял, возможно, слишком часто, лирическая любимая одинаково прекрасна и возвышена, поскольку она бесконечно желанна и по этой самой причине запрещена для поэта. Лирическая сцена воспроизводит первоначальную конфигурацию, в которой центральный объект объединяет в себе качества возвышенного и прекрасного. Подобно тому, как противопоставление возвышенного и прекрасного, открытое Берком, подчеркивает разницу между объектами, которые вызывают эти две формы эстетического опыта, делая важный шаг в сторону от их изначального единства, даже когда он начинает рассматривать их в свете сценического воображения. Итак, лирическая возлюбленная сочетает в себе и то, и другое со специфическим нюансом: хотя возвышенное-запретительное было первоочередной необходимостью конституирования лирической сцены, прекрасное гораздо более ясно и настойчиво является атрибутом самой возлюбленной.
Для лирической сцены воспроизводит исходную сцену с другой моделью желания. Те, кто пытался сделать мотивом первоначальной сцены сексуальное, а не пищевое желание, сталкиваются с различными непреодолимыми препятствиями, наиболее очевидным из которых является то, что сексуальная активность обычно не является коллективной и с трудом поддается сценической концентрации (таким образом, оргия обычно включает в себя хаотическое объединение в пары, а не концентрацию на центральной сцене, что ясно дает французский термин partouze — взлет на partout = везде ).Лирическая сцена имеет только одного участника на периферии, даже если возвышенность его возлюбленной отражает имплицитное присутствие всего мира, разделяя восхищение его любовника-поэта.
Очевидно, что мир лирики сегодня сильно обеднел. Из стихотворений, с которыми я сталкиваюсь в журналах или в Интернете, я не помню последнего, которое можно было бы назвать любовным стихотворением, по крайней мере, не гетеросексуальным любовным стихотворением. Но я не могу себе представить, чтобы изредка какой-нибудь молодой человек не писал своей девушке сонеты, или наоборот.Когда-нибудь я надеюсь наткнуться на некоторых.
О прекрасном и возвышенном | PLATO
Инструментальный текст
О прекрасном и возвышенном… Эстетика как субъективный опыт
Один из давних вопросов, который обсуждается в области эстетики, касается природы Красоты; Один вопрос в этой области спрашивает нас, где находится красота: в объекте или в наших глазах. Если пойти дальше, если Красота в нас, а не в мире, что это за вещь? Одно направление мышления включает понимание красоты как формы субъективного опыта.Начиная с Лонгина и продолжая через Берка и Канта и далее в 20 веке, некоторые предполагали, что эстетическое переживание можно разделить на два типа — переживание прекрасного и возвышенного. Одно ключевое место, где эти двое различаются, — это влияние на человека -> обычно считается, что Прекрасное созвучно, а Возвышенное диссонантно, что Прекрасное подтверждает наш Разум, что Возвышенное, однако, связывает нас с фактом. что мы в некотором роде не в ладах с природой, но, в конечном счете, этот диссонанс может быть разрешен через наше выражение человеческой свободы вне законов природы.
Ниже приведены ссылки на короткое видео о Возвышенном и изображения, иллюстрирующие Прекрасное и Возвышенное.
Прекрасное:
ЖОРЖ СЕЕРА: «Une baignade à Asnières (Купальщицы в Аньере)», 1883/84 — холст, масло, 201–300 см. — Лондон, Национальная галерея
ВИНСЕНТ ВАН ГОГ: «Подсолнухи (ваза с пятнадцатью подсолнухами)», 1888 — холст, масло — Лондон, Национальная галерея искусств
МЭРИ КАССАТТ: «Лето», 1894 г. — холст, масло, 100,7-81,3 см.- Фонд американского искусства Terra, Чикаго
Возвышенный:
Альберт Бирштадт, Среди гор Сьерра-Невада, Калифорния, 1868 год, Смитсоновский музей американского искусства, Вашингтон, округ Колумбия.
Каспар Давид Фридрих, странник над морем тумана, 1817, Кунстхалле, Гамбург
Джозеф Мэллорд Уильям Тернер Снежная буря — Выставка парохода у устья гавани 1842 Галерея Тейт
Приведенный ниже текст знакомит с некоторыми произведениями Лонгина, Берка и Канта.
- «Лонгин», На возвышенном ( 1-й или 3-й век нашей эры)
Лонгин пропагандирует «возвышение стиля» и сущность «простоты»: «Возвышенное относится к стилю письма, которое возвышает себя над обычным»… пять источников Возвышенного: «великие мысли, сильные эмоции, определенные фигуры мысли и речи, благородной дикции и достойного расположения слов ».
Эффекты Возвышенного: потеря рациональности, отчуждение, ведущее к идентификации с творческим процессом художника, и глубокие эмоции, смешанные с удовольствием и возвышением.«Задача писателя — не столько выразить пустые чувства, сколько вызвать эмоции в своей аудитории … Возвышенное приводит слушателей не к убеждению, а к экстазу: ведь прекрасное всегда сочетается с чувством тревоги и преобладает над то, что только убедительно или восхитительно, поскольку убеждение, как правило, доступно каждому: тогда как Возвышенное, наделяя речь непобедимой силой и [непобедимой] силой, возвышается над каждым слушателем »
- Эдмунд Берк, Философское исследование происхождения наших представлений о возвышенном и прекрасном (1757)
Beautiful, по словам Берка, — это то, что хорошо сформировано и эстетично, тогда как Sublime — это то, что может заставить и разрушить нас.Берк пишет о физиологических эффектах Возвышенного, в частности о двойственном эмоциональном качестве страха и влечения. Берк описал ощущение, приписываемое возвышенному, как «отрицательную боль», которую он назвал восторгом и которая отличается от положительного удовольствия. Считается, что наслаждение возникает в результате устранения боли (столкновения с возвышенным объектом) и является более интенсивным, чем положительное удовольствие.
- Иммануил Кант, Критика суждения (1790)
Кант утверждает, что существует четыре вида суждений: приемлемое, хорошее, прекрасное и возвышенное.Кант утверждает, что первый субъективен, второй универсален, а два других лежат между ними как субъективные универсалии. Возвышенное — это «природа, рассматриваемая с эстетической точки зрения как сила, которая не имеет над нами власти», и объект может создавать страх, «не боясь из его»… он вызывает страх, но НЕ НАСТОЯЩИЙ угрожает.
«Возвышенное всегда должно быть большим; красивое может быть маленьким. Возвышенное должно быть простым; Красивое можно украсить и украсить. Величественна и очень большая высота, и очень большая глубина; но последнее сопровождается чувством ужаса, первое — восхищением.Следовательно, одно может быть ужасно возвышенным, другое благородным…. Долгое время возвышенно. Если это касается прошедшего времени, это благородно; если его предвидеть как определимое будущее, в нем есть что-то ужасающее. …
Среди народов нашего континента, на мой взгляд, итальянцы и французы отличаются своим чувством прекрасного, а немцы англичане и испанцы — своим чувством возвышенного. Голландию можно принять за страну, где этот изысканный вкус становится незаметным.Само прекрасное либо очаровывает, либо трогает, либо излучает, либо соблазняет. В первом есть что-то от Возвышенного, и ум, когда он ощущает его, сильно взволнован или полон энтузиазма, но когда он чувствует, второй подходит французам. «
Гендер, раса и возвышенное в эстетических теориях Берка и Канта на JSTOR
Основано в 1942 году Американским обществом эстетиков, The Journal of Aesthetics and Art Criticism публикует текущие исследовательские статьи, специальные выпуски и своевременные рецензии на книги по эстетике и искусству.Термин «эстетика» в этой связи понимается как включающий все исследования искусств и связанных с ними видов опыта с философской, научной или другой теоретической точки зрения. «Искусство» понимается в широком смысле и включает не только традиционные формы. таких как музыка, литература, театр, живопись, архитектура, скульптура и танцы, но также и более свежие дополнения, такие как фильмы, фотографии, земляные работы, исполнительское искусство, а также ремесла, декоративное искусство, цифровое и электронное производство и различные аспекты массовой культуры.
Wiley — глобальный поставщик контента и решений для рабочих процессов с поддержкой контента в областях научных, технических, медицинских и научных исследований; профессиональное развитие; и образование. Наши основные предприятия выпускают научные, технические, медицинские и научные журналы, справочники, книги, услуги баз данных и рекламу; профессиональные книги, продукты по подписке, услуги по сертификации и обучению и онлайн-приложения; образовательный контент и услуги, включая интегрированные онлайн-ресурсы для преподавания и обучения для студентов и аспирантов, а также для учащихся на протяжении всей жизни.Основанная в 1807 году компания John Wiley & Sons, Inc. уже более 200 лет является ценным источником информации и понимания, помогая людям во всем мире удовлетворять свои потребности и воплощать в жизнь их чаяния. Wiley опубликовал работы более 450 лауреатов Нобелевской премии во всех категориях: литература, экономика, физиология и медицина, физика, химия и мир. Wiley поддерживает партнерские отношения со многими ведущими мировыми обществами и ежегодно издает более 1500 рецензируемых журналов и более 1500 новых книг в печатном виде и в Интернете, а также базы данных, основные справочные материалы и лабораторные протоколы по предметам STMS.Благодаря растущему предложению открытого доступа, Wiley стремится к максимально широкому распространению и доступу к публикуемому нами контенту и поддерживает все устойчивые модели доступа. Наша онлайн-платформа, Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), является одной из самых обширных в мире междисциплинарных коллекций онлайн-ресурсов, охватывающих жизнь, здоровье, социальные и физические науки и гуманитарные науки.
Эдмунд Берк — О возвышенном — Философская мысль
Джефф Маклафлин
ЧАСТЬ I
РАЗДЕЛ VII.
ПОДВЕСНОГО.
Все, что хоть как-то приспособлено для возбуждения идей боли и опасности, то есть все, что в какой-то мере ужасно, или известно об ужасных предметах, или действует аналогично ужасу, является источником sublime ; то есть он производит самую сильную эмоцию, которую способен почувствовать ум. Я говорю «сильнейшая эмоция», потому что я удовлетворен тем, что идеи боли намного сильнее, чем те, которые возникают со стороны удовольствия.Без всякого сомнения, муки, которые нам приходится терпеть, по своему воздействию на тело и разум гораздо сильнее, чем любые удовольствия, которые мог бы предложить самый ученый сладострастный, или чем самое живое воображение и самое здоровое и изысканно чувственное тело , мог бы наслаждаться. Более того, я очень сомневаюсь, можно ли найти человека, который заработал бы жизнь самого совершенного удовлетворения ценой прекращения ее мучений, которые правосудие за несколько часов нанесло покойному злополучному цареубийству во Франции.Но как боль в своем действии сильнее удовольствия, так и смерть в целом оказывает гораздо большее влияние, чем боль; потому что очень мало болей, пусть даже изощренных, которые не предпочтительны смерти; более того, что обычно делает саму боль, если можно так выразиться, более болезненной, так это то, что ее считают посланником этого короля ужасов. Когда опасность или боль давят слишком близко, они не способны доставить никакого удовольствия и просто ужасны; но на определенных расстояниях и с некоторыми модификациями они могут быть и остаются восхитительными, как мы каждый день испытываем.Причину этого я постараюсь выяснить позже.
ЧАСТЬ II.РАЗДЕЛ I.
СТРАСТИ, ВЫЗВАННОЙ СУЩЕСТВОМ.
Страсть, вызванная великим и возвышенным в природе , когда эти причины действуют наиболее сильно, есть изумление; а изумление — это то состояние души, в котором все ее движения приостановлены, с некоторой степенью ужаса. В этом случае ум настолько полностью заполнен своим объектом, что он не может принимать участие ни в каком другом или как следствие рассудке о том объекте, который его использует.Отсюда возникает великая сила возвышенного, которая не только не создается ими, но и предвосхищает наши рассуждения и с непреодолимой силой ускоряет нас. Как я уже сказал, изумление — это эффект возвышенного в его высшей степени; низшие эффекты — восхищение, почтение и уважение.
РАЗДЕЛ II.
ТЕРРОР.
Никакая страсть не лишает разум так эффективно все его способности действовать и рассуждать, как страх . Поскольку страх — это предчувствие боли или смерти, он действует аналогично настоящей боли.Поэтому все, что ужасно в отношении зрения, также является возвышенным, независимо от того, наделена ли эта причина ужаса величием измерений или нет; ибо нельзя смотреть на что-либо как на пустяк или презрение, что может быть опасно. Есть много животных, которые хоть и невелики, но все же способны порождать возвышенные идеи, потому что их считают объектами ужаса. Как змеи и ядовитые животные почти всех видов. А к вещам огромных размеров, если мы приложим случайную идею террора, они станут несравненно больше.Ровная равнина огромной площади на суше, конечно, неплохая идея; перспектива такой равнины может быть столь же обширна, как перспектива океана; но может ли он когда-либо наполнить разум чем-то более великим, чем сам океан? Это происходит по нескольким причинам; но ничто иное, как это, океан является объектом немалого ужаса. В самом деле, террор во всех случаях, открыто или скрыто, является правящим принципом возвышенного. Несколько языков убедительно свидетельствуют о близости этих идей.Они часто используют одно и то же слово для равнодушного обозначения способов изумления или восхищения и способов ужаса. [Греческий: Thambos] по-гречески либо страх, либо удивление; [Греческий: дейнос] ужасен или уважаем; [Греческий: ахидео], почитать или бояться. Vereor на латыни — это то, что [греч .: ахидео] по-гречески. Римляне использовали глагол stupeo , термин, который сильно отмечает состояние изумленного ума, чтобы выразить эффект либо простого страха, либо удивления; слово attonitus (пораженный громом) также выражает союз этих идей; и разве французское étonnement и английское изумление и изумление так же ясно указывают на родственные эмоции, сопровождающие страх и удивление? Те, кто обладает более общими знаниями языков, могли бы привести, я не сомневаюсь, много других и не менее ярких примеров.
РАЗДЕЛ III.
НЕВЕРОЯТНОСТЬ.
Для того, чтобы сделать что-нибудь очень ужасное, в общем, кажется, необходима безвестность. Когда мы осознаем всю степень опасности, когда мы можем привыкнуть к ней, большая часть опасений исчезает. Это осознает каждый, кто задумывается о том, насколько ночь усиливает наш ужас во всех случаях опасности и насколько представления о призраках и гоблинах, о которых никто не может составить ясных представлений, влияют на умы, которые признают популярность сказки о таких существах.Те деспотические правительства, которые основаны на человеческих страстях и, главным образом, на страсти страха, держат своего вождя настолько, насколько это возможно, от глаз общественности. Политика была такой же во многих случаях религии. Почти все языческие храмы были темными. Даже в варварских храмах американцев в наши дни они держат своего идола в темной части хижины, которая посвящена его поклонению. С этой целью друиды также проводили все свои церемонии в лоне самых темных лесов и в тени самых старых и раскидистых дубов.Кажется, что никто лучше Мильтона не понял секрет усиления или установления ужасных вещей, если я могу использовать это выражение в их самом ярком свете, в силу разумной безвестности. Его описание смерти во второй книге прекрасно изучено; Поразительно, с какой мрачной пышностью, с какой значительной и выразительной неопределенностью мазков и колоритов он закончил портрет царя ужасов:
«Другая форма»,
Если фигуру можно было бы назвать, у этой формы не было
Различимые на члене, суставе или конечности;
Или субстанцией можно назвать эту тень;
Для каждого показалось; черный он стоял как ночь;
Свирепы, как десять фурий; ужасно как ад;
И потряс смертоносным дротиком.Какой казалась голова
На нем было подобие царской короны ».
В этом описании все мрачно, неопределенно, запутанно, ужасно и до последней степени возвышенно.
РАЗДЕЛ IV.
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЯСНОСТЬЮ И НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ ОТНОСИТЕЛЬНО СТРАСТИ.
Одно дело сделать идею ясной, а другое — сделать ее затрагивающей воображение. Если я рисую дворец, храм или пейзаж, я представляю очень четкое представление об этих объектах; но тогда (учитывая эффект имитации, что является чем-то вроде) моя картина может повлиять только на то, как дворец, храм или пейзаж повлияли бы на реальность.С другой стороны, самое живое и жизнерадостное словесное описание, которое я могу дать, вызывает очень неясное и несовершенное представление о таких объектах; но тогда в моих силах вызвать более сильную эмоцию описанием, чем я мог бы сделать лучшей картиной. Этот опыт постоянно проявляется. Надлежащий способ передачи привязанностей ума от одного к другому — это слова; во всех других способах общения очень мало; и настолько ясность образов не является абсолютно необходимой для воздействия на страсти, что на них можно значительно воздействовать, не представляя вообще никакого образа, с помощью определенных звуков, приспособленных для этой цели; из которых мы имеем достаточное доказательство в признанных мощных эффектах инструментальной музыки.На самом деле большая ясность мало помогает в воздействии на страсти, так как она в некотором роде враг всем энтузиазмам вообще…
[T] Аббат дю Бос отдает предпочтение живописи поэзии как предмету возбуждения страстей; главным образом из-за большей ясности идей, которые он представляет. Я считаю, что к этой ошибке (если это ошибка) этого превосходного судьи привела его система; которому он счел это более подходящим, чем я предполагаю, будет обнаружено на опыте.Я знаю некоторых, кто восхищается и любит рисовать, но при этом относится к объектам своего восхищения в этом искусстве достаточно холодно по сравнению с той теплотой, с которой они оживляются, воздействуя на стихи или риторику. Среди обычных людей я никогда не замечал, чтобы живопись сильно влияла на их страсти. Это правда, что лучшие виды живописи, равно как и лучшие виды поэзии, в этой сфере мало изучены. Но совершенно очевидно, что их страсти очень сильно подогреваются фанатичным проповедником или балладами о Чеви Чейза, или Детях в лесу, а также другими небольшими популярными стихотворениями и сказками, популярными в этом кругу жизни.Я не знаю картин, плохих или хороших, которые производили бы такой же эффект. Таким образом, эта поэзия при всей ее неясности имеет более общую и более сильную власть над страстями, чем другое искусство. И я думаю, что в природе есть причины, по которым непонятная идея, если ее правильно передать, должна оказывать большее влияние, чем ясная. Наше незнание вещей вызывает все наше восхищение и, главным образом, возбуждает наши страсти. Знание и знакомство заставляют самые поразительные причины мало влиять.Так обстоит дело с вульгарным; и все люди такие же вульгарные в том, чего не понимают. Идеи вечности и бесконечности — одни из самых трогательных, которые у нас есть; и все же, возможно, нет ничего, из чего мы действительно так мало понимаем, как бесконечности и вечности. Мы не встретим более возвышенного описания, чем это справедливо прославленный портрет Милтона, в котором он дает портрет Сатаны с достоинством, столь подходящим для предмета:
«Он выше остальных
Форма и жест, гордо выдающиеся
Стояла как башня; его форма еще не потеряла
Вся яркость у нее исходная, ни появилось
Меньше разорения архангела и превышение
Славы сокрытой: как при восходе солнца
Глядя сквозь горизонтальный туманный воздух
Обрезанный лучей; или из-за луны
В тусклом затмении ужасные сумеречные навесы
На половину народов; и со страхом перемен
Недоумение монархов.”
Вот очень благородная картина; а в чем состоит эта поэтическая картина?
В изображениях башни, архангела, восходящего солнца сквозь туман или затмения, крушения монархов и революции королевств. Ум торопливо выводится из себя толпой огромных и запутанных образов; которые влияют, потому что они переполнены и запутаны. Ибо разделите их, и вы потеряете большую часть величия; и присоединитесь к ним, и вы непогрешимо потеряете ясность. Образы, порожденные поэзией, всегда имеют такой неясный вид; хотя в целом эффекты поэзии никоим образом нельзя отнести к образам, которые она вызывает; этот момент мы рассмотрим подробнее в дальнейшем.Но живопись, когда мы допускаем удовольствие от подражания, может воздействовать только на изображения, которые она представляет; и даже в живописи разумная неясность в некоторых вещах способствует эффекту картины; потому что изображения в живописи точно такие же, как в природе; и в природе темные, запутанные, неопределенные образы сильнее влияют на воображение, формируя более грандиозные страсти, чем те, которые обладают более ясными и определенными. Но где и когда это наблюдение может быть применено к практике и насколько далеко оно должно быть расширено, будет лучше выводиться из природы предмета и из обстоятельств, чем из любых правил, которые могут быть даны.
Я понимаю, что эта идея встретила противодействие и, вероятно, все еще будет отвергнута некоторыми. Но позвольте принять во внимание, что едва ли что-либо может поразить ум своим величием, который не предполагает какого-то приближения к бесконечности; которого ничто не может сделать, пока мы можем постичь его границы; но ясно видеть объект и видеть его границы — это одно и то же. Поэтому ясная идея — это еще одно название маленькой идеи. В книге Иова есть удивительно возвышенный отрывок, и эта возвышенность в основном объясняется ужасной неопределенностью описываемого: В мыслях из ночных видений, когда на людей погружается глубокий сон, меня охватывает страх и трепет. , что заставило все мои кости дрожать.Затем дух прошел перед моим лицом. Волосы моей плоти встали дыбом. Он стоял неподвижно , но я не мог различить его форму; изображение было перед моими глазами; была тишина; и я услышал голос: будет ли смертный человек правее Бога? Сначала мы с величайшей торжественностью готовимся к видению; мы сначала напуганы, прежде чем впадаем даже в неясную причину наших эмоций: но когда появляется эта великая причина ужаса, что это такое? Разве он не окутан тенями собственной непостижимой тьмы, более ужасного, более яркого, более ужасного, чем самое живое описание, чем самая ясная картина, которую может представить его? Когда художники пытались дать нам ясное представление об этих очень фантастических и ужасных идеях, я думаю, они почти всегда терпели неудачу; до такой степени, что я был в затруднении на всех картинах ада, которые я видел, чтобы определить, не задумал ли художник что-то нелепое.Несколько художников работали с подобными предметами с целью собрать столько ужасных фантомов, сколько могло предложить их воображение; но все рисунки соблазнов святого Антония, которые мне довелось встретить, были скорее чем-то вроде странных, диких гротесков, нежели чем-либо, способным вызвать серьезную страсть. По всем этим предметам поэзия очень довольна. Его явления, его химеры, его гарпии, его аллегорические фигуры величественны и трогательны; и хотя «Слава» Вергилия и «Раздор Гомера» неясны, они — великолепные фигуры.Эти фигуры в живописи были бы достаточно четкими, но я боюсь, что они могут стать смешными.
РАЗДЕЛ V.
МОЩНОСТЬ.
Кроме тех вещей, которые непосредственно наводят на мысль об опасности, и тех, которые производят аналогичный эффект от механической причины, я не знаю ничего возвышенного, что не является некоторой модификацией силы. И эта ветвь возникает так же естественно, как и две другие, из ужаса, общего запаса всего возвышенного.Идея власти на первый взгляд кажется классом тех безразличных, которые могут в равной степени принадлежать боли или удовольствию. Но на самом деле привязанность, возникающая из идеи огромной власти, чрезвычайно далека от этого нейтрального характера. Во-первых, мы должны помнить, что идея боли в высшей степени намного сильнее, чем высшая степень удовольствия; и что он сохраняет такое же превосходство по всем подчиненным ступеням. Отсюда следует, что там, где шансы на равные степени страдания или удовольствия в любом роде равны, идея страдания всегда должна преобладать.И действительно, идеи боли и, прежде всего, смерти настолько трогательны, что, пока мы остаемся в присутствии того, что, как предполагается, может причинить то и другое, невозможно полностью освободиться от ужаса. Опять-таки, мы знаем по опыту, что для получения удовольствия совсем не нужны большие силы; более того, мы знаем, что такие усилия во многом разрушили бы наше удовлетворение: ведь удовольствие нужно украсть, а не навязать нам; удовольствие следует за волей; и поэтому мы, как правило, подвержены влиянию многих вещей, сила которых намного ниже нашей.Но боль всегда причиняет сила в некотором роде превосходящая, потому что мы никогда не подчиняемся боли добровольно. Итак, сила, насилие, боль и ужас — идеи, которые вместе врываются в ум. Посмотрите на человека или любое другое животное невероятной силы, и что вы думаете до размышления? Неужели эта сила будет служить вам, вашей легкости, вашему удовольствию, вашим интересам в любом смысле? Нет; эмоция, которую вы испытываете, есть, чтобы не использовать эту огромную силу для грабежа и разрушения.Эта сила черпает всю свою возвышенность из ужаса, которым ее обычно сопровождают, очевидно, из ее воздействия в очень немногих случаях, в которых может оказаться возможным лишить значительную степень силы ее способности причинять боль. Делая это, вы портите все возвышенное, и оно сразу становится презренным. Бык — существо огромной силы; но он невинное существо, чрезвычайно пригодное для использования и совсем не опасное; по этой причине идея быка никоим образом не велика.Бык тоже силен; но его сила другого рода; часто очень деструктивны, редко (по крайней мере, среди нас) используются в нашем бизнесе; Поэтому идея быка велика, и ей часто нужно место в возвышенных описаниях и возвышающих сравнениях. Давайте посмотрим на другое сильное животное в двух разных светах, в которых мы можем его рассматривать. Лошадь в свете полезного зверя, пригодного для плуга, дороги, тяги; в любом общественно полезном свете в лошади нет ничего возвышенного; но так ли это, что мы затронуты тем, чья шея облечена громом, чьи ноздри ужасны, кто глотает землю с неистовой яростью и не верит, что это звук трубы ? В этом описании полезный характер лошади полностью исчезает, а ужасное и возвышенное вспыхивают вместе.Нас постоянно окружают животные, обладающие значительной, но не опасной силой. Среди них мы никогда не ищем возвышенного; он приходит к нам в мрачном лесу и в воющей пустыне в виде льва, тигра, пантеры или носорога. Когда сила только полезна и используется для нашей пользы или нашего удовольствия, она никогда не бывает возвышенной; ибо ничто не может действовать согласованно с нами, что не действует в соответствии с нашей волей; но чтобы действовать согласно нашей воле, он должен подчиняться нам и, следовательно, никогда не может быть причиной грандиозного и властного замысла.Описание дикого осла у Иова доведено до немалой возвышенности просто потому, что он настаивает на его свободе и бросает вызов человечеству; иначе в описании такого животного не могло быть ничего благородного. Кто развязал (говорит) банды дикого осла? дом которого Я сделал его жилищами пустыню и бесплодную землю. Он презирает народ города, и не слышит голоса водителя. Гряда гор — его пастбище. Великолепное описание единорога и левиафана в той же книге наполнено одними и теми же возвышающими обстоятельствами: Захочет ли единорог служить тебе? можешь ли ты связать единорога лентой в борозде? поверишь ли ты ему, потому что его сила велика? — Ты можешь вытащить левиафана крюком? заключит ли он с тобою завет? не хочешь ли ты принять его в рабство навсегда? никто не должен быть низложен даже при виде его? Короче говоря, где бы мы ни находили силу и в каком бы свете мы ни смотрели на власть, мы все время будем замечать возвышенное, сопутствующее ужасу, и презирать слугу с помощью силы, которая подчиняется и безвредна.Раса собак, во многих их разновидностях, обычно обладает достаточной силой и быстротой; и они проявляют эти и другие ценные качества, которыми обладают, для нашего удобства и удовольствия. Собаки действительно самые общительные, ласковые и дружелюбные животные из всех животных; но любовь гораздо ближе к презрению, чем обычно думают; и соответственно, хотя мы ласкаем собак, мы заимствуем у них самое презренное наименование, когда употребляем упреки; и это название — общий знак последней мерзости и презрения на всех языках.Волки обладают не большей силой, чем несколько видов собак; но из-за их неуправляемой жестокости идея волка не вызывает презрения; это не исключено из великих описаний и сравнений. Таким образом, на нас действует сила, которая составляет естественных мощностей. Власть, возникающая из институтов королей и командиров, имеет ту же связь с террором. К государям часто обращаются с титулом dread majesty . И можно заметить, что молодые люди, мало знакомые с миром и не привыкшие приближаться к людям, обладающим властью, обычно поражаются трепетом, который лишает их возможности свободно пользоваться своими способностями. Когда я приготовил свое место на улице, (говорит Иов), молодые люди увидели меня и спрятались. В самом деле, эта робость по отношению к власти настолько естественна, и так сильно она присуща нашей конституции, что очень немногие способны победить ее, но при этом многое смешивают с делами великого мира или применяют немалое насилие для их естественные предрасположенности. Я знаю, что некоторые люди придерживаются мнения, что идея власти не сопровождается никаким страхом или ужасом; и рискнули подтвердить, что можем созерцать идею самого Бога без каких-либо таких эмоций.Когда я впервые задумался об этом предмете, я намеренно избегал вводить идею этого великого и огромного Существа в качестве примера в столь легкомысленном аргументе; хотя мне это часто приходило в голову не как возражение, а как сильное подтверждение моих представлений по этому поводу. Я надеюсь, что в том, что я собираюсь сказать, я избегу самонадеянности, в которой ни один смертный почти не может говорить строго прилично. Я говорю тогда, что, хотя мы рассматриваем Божество просто как объект понимания, которое формирует сложное представление о силе, мудрости, справедливости, добродетели, все простирается до степени, намного превышающей границы нашего понимания, в то время как мы рассматриваем божественность в этом утонченном и абстрактном свете, воображение и страсти почти не затрагиваются.Но поскольку в силу состояния нашей природы мы обязаны возвыситься к этим чистым и интеллектуальным идеям посредством чувственных образов и судить об этих божественных качествах по их очевидным действиям и усилиям, становится чрезвычайно трудно распутать наши идея причины из следствия, благодаря которому мы ее узнали. Таким образом, когда мы созерцаем Божество, его атрибуты и их действие, объединяясь в уме, образуют своего рода чувственный образ и, как таковые, способны влиять на воображение.Теперь, хотя в справедливом представлении о Божестве, возможно, ни один из его атрибутов не является преобладающим, тем не менее, для нашего воображения, его сила, безусловно, самая поразительная. Некоторое размышление, некоторое сравнение необходимы, чтобы удовлетворить нас его мудростью, его справедливостью и его добротой. Чтобы быть пораженными его силой, нужно только открыть глаза. Но пока мы созерцаем такой огромный объект, как бы находясь под мышкой, обладающей всемогущей силой и со всех сторон облеченный вездесущностью, мы сжимаемся до мелочности нашей собственной природы и в некотором смысле уничтожаемся перед ним.И хотя рассмотрение других его качеств может в некоторой степени облегчить наши опасения; тем не менее, никакая убежденность в справедливости, с которой она осуществляется, или милосердие, с которым она умерена, не может полностью устранить ужас, который естественно возникает из-за силы, которой ничто не может противостоять. Если радуемся, то трепетом радуемся; и даже когда мы получаем блага, мы не можем не содрогнуться от силы, которая может дать блага столь огромной важности. Когда пророк Давид созерцал чудеса мудрости и силы, которые проявляются в домостроительстве человека, он, кажется, поражен своего рода божественным ужасом и восклицает: « ужасно и чудесно, я стал ! Поэт-язычник испытывает такое же чувство; Гораций смотрит на это как на последнее усилие философской стойкости, чтобы без ужаса и изумления созерцать эту огромную и великолепную ткань вселенной [.]
Лукреций — поэт, которого нельзя заподозрить в том, что он поддался суеверным ужасам; однако, когда он предполагает, что весь механизм природы раскрыт мастером его философии, его переход на этот великолепный вид, который он изобразил в цветах такой смелой и живой поэзии, покрывается оттенком тайного страха и ужаса. …
Но одно только Писание может дать идеи, соответствующие величию этого предмета. В Священном Писании, где бы Бог ни был представлен как явившийся или говорящий, все ужасное в природе призвано усилить трепет и торжественность Божественного присутствия.Псалмы и книги пророков переполнены подобными примерами. Земля содрогнулась, (говорит Псалмопевец) Небеса также упали в присутствии Господа. И что примечательно, картина сохраняет тот же характер не только тогда, когда предполагается, что он нисходит, чтобы отомстить нечестивым, но даже когда он проявляет такую же изобилие силы в делах милосердия человечеству. Трепещи, земля! в присутствии Господа; в присутствии Бога Иакова; превративший скалу в стоячую воду, кремень в источник воды! Было бесконечно перечислять все отрывки, как в священных, так и в светских писателях, которые устанавливают общее мнение человечества о неразрывном единстве священного и благоговейного трепета с нашими представлениями о божественности.Отсюда общая максима: Primus in orbe deos fecit timor . Эта максима может быть, как я полагаю, ложной в отношении происхождения религии. Создатель максимы видел, насколько неотделимы эти идеи, не принимая во внимание, что идея некой великой силы всегда должна предшествовать нашему страху перед ней. Но этот страх обязательно должен следовать за идеей такой силы, когда она однажды возбуждена в уме. Именно исходя из этого принципа истинная религия имеет и должна иметь такую смесь целительного страха; и что у ложных религий, как правило, нет ничего, кроме страха, чтобы поддержать их.До того, как христианская религия как бы очеловечила идею Божества и приблизила ее к нам, о любви к Богу было сказано очень мало. У последователей Платона есть что-то от этого, и только что-то; другие писатели языческой древности, будь то поэты или философы, вообще ничего. И те, кто думают, с каким безграничным вниманием, каким пренебрежением к каждому бренному объекту, благодаря каким долгим привычкам благочестия и созерцания способен любой человек достичь полной любви и преданности Божеству, легко поймут, что это так. не первый, самый естественный и самый поразительный эффект, который исходит от этой идеи.Таким образом, мы проследили силу через несколько ее градаций до высшей из всех, где наше воображение окончательно потеряно; и на протяжении всего прогресса мы находим ужас, его неразлучного спутника и растущий вместе с ним, насколько это возможно. Теперь, когда сила, несомненно, является основным источником возвышенного, это, очевидно, укажет, откуда берется ее энергия и с каким классом идей мы должны ее объединить.
РАЗДЕЛ VI.
ЧАСТЬ.
ВСЕ общие лишения велики, потому что все они ужасны; пустота , темнота , одиночество и тишина . С каким пламенем воображения, но с какой суровостью суждений Вергилий собрал все эти обстоятельства, когда он знает, что все образы огромного достоинства должны быть объединены в устах ада! Где, прежде чем он откроет секреты великой бездны, он, кажется, охвачен религиозным ужасом и уходит, пораженный смелостью своего собственного замысла:
РАЗДЕЛ VII.
БОЛЬШОЙ.
Величие измерения — могущественная причина возвышенного. Это слишком очевидно, и наблюдение слишком распространено, чтобы нуждаться в каких-либо иллюстрациях; не так уж часто задумываться о том, каким образом величие измерения, безмерность или количество имеет наиболее поразительный эффект. Ибо, конечно, есть способы и способы, в которых одно и то же количество протяженности будет производить более сильные эффекты, чем в других. Расширение бывает по длине, высоте или глубине. Из них длина бросается в глаза меньше всего; сотня ярдов ровной земли никогда не даст такого эффекта, как башня высотой в сто ярдов, скала или гора такой высоты.Точно так же я склонен вообразить, что высота меньше глубины; и что нас больше поражает, глядя вниз с пропасти, чем на объект такой же высоты; но в этом я не очень уверен. Перпендикуляр имеет большую силу при формировании возвышенного, чем наклонная плоскость, и влияние неровной и сломанной поверхности кажется более сильным, чем там, где она является гладкой и полированной. Это уведет нас с нашего пути, если мы войдем в это место в причину этих явлений, но несомненно, что они дают большое и плодотворное поле для размышлений.Однако, возможно, будет не лишним добавить к этим замечаниям о величине, что, как великая крайность измерения возвышенна, так и последняя крайность малости в некоторой степени также возвышенна; когда мы обращаем внимание на бесконечную делимость материи, когда мы преследуем животную жизнь в этих чрезмерно маленьких, но все же организованных существах, ускользнувших от самой прекрасной инквизиции чувства; когда мы толкаем наши открытия еще вниз и рассматриваем этих существ на столько ступеней, но еще меньших, и на все еще уменьшающийся масштаб существования, при отслеживании которых теряется как воображение, так и смысл; мы поражаемся и сбиваемся с толку чудесами мелочности; мы также не можем отличить по его действию эту крайнюю малость от самого огромного.Ибо деление должно быть бесконечным, как и сложение; потому что идея совершенного единства не может быть достигнута больше, чем идея полного целого, к которому ничего нельзя добавить.
РАЗДЕЛ VIII.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ.
Другой источник возвышенного — бесконечность ; если он скорее не принадлежит к последнему. Бесконечность имеет свойство наполнять разум такого рода восхитительным ужасом, который является самым подлинным эффектом и истинным испытанием возвышенного.Очень мало вещей, которые могут стать объектами наших чувств, которые действительно бесконечны по своей природе. Но глаз не в состоянии воспринимать границы многих вещей, они кажутся бесконечными и производят те же эффекты, как если бы они были действительно таковыми. Подобным же образом мы обманываемся, если части какого-то большого объекта так продолжаются до любого неопределенного числа, что воображение не встречает препятствий, которые могли бы помешать ему расширять их с удовольствием.
Каждый раз, когда мы часто повторяем какую-либо идею, разум посредством своего рода механизма повторяет ее еще долго после того, как первая причина перестала действовать.После кружения, когда мы садимся, кажется, что предметы вокруг нас все еще кружатся. После долгой череды шумов, таких как падение воды или удары кузнечных молотов, удары молотов и рев воды в воображении спустя долгое время после того, как первые звуки перестали влиять на него; и они, наконец, угасают едва заметными градациями. Если вы поднимете прямой шест, приставив глаз к одному концу, он будет казаться растянутым до почти невероятной длины. Поместите несколько одинаковых и равноудаленных знаков на этот шест, они вызовут тот же обман и будут казаться бесконечными.Чувства, сильно затронутые каким-то одним образом, не могут быстро изменить свой тон или приспособиться к другим вещам; но они продолжают свое старое русло, пока сила первопроходца не иссякнет. Это причина того, что сумасшедшие очень часто появляются; что они остаются целыми днями и ночами, иногда целыми годами, в постоянном повторении какого-нибудь замечания, жалобы или песни; которые сильно ударили по их расстроенному воображению, в начале их безумия, каждое повторение усиливает его с новой силой, и спешка их духа, не сдерживаемая обузданием разума, продолжается до конца их жизни.
РАЗДЕЛ IX.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ЕДИНСТВЕННОСТЬ.
Последовательность и единообразие частей — вот что составляет искусственную бесконечность. 1. Наследование ; что необходимо для того, чтобы части могли продолжаться так долго и в таком направлении, как их частые импульсы на чувстве, чтобы впечатлить воображение идеей их продвижения за их действительные пределы. 2. Однородность ; потому что, если фигуры деталей должны быть изменены, воображение при каждом изменении находит проверку; при каждом изменении вам предоставляется прекращение одной идеи и начало другой; таким образом становится невозможным продолжать то непрерывное развитие, которое одно только может наложить на ограниченные объекты характер бесконечности.Я полагаю, что именно в этой искусственной бесконечности мы должны искать причину, по которой округлое тело оказывает такое благородное действие. Ведь в округе, будь то здание или плантация, вы не можете нигде установить границу; повернитесь в любую сторону, тот же объект, кажется, продолжает двигаться, и воображение не имеет покоя. Но части должны быть одинаковыми, а также располагаться по кругу, чтобы придать этой фигуре полную силу; потому что любое различие, будь то в расположении, или в фигуре, или даже в цвете частей, очень пагубно сказывается на идее бесконечности, которую каждое изменение должно сдерживать и прерывать при каждом изменении, начинающем новую серию.На тех же принципах преемственности и единообразия будет легко объяснен величественный вид древних языческих храмов, которые, как правило, имели продолговатую форму с множеством одинаковых колонн с каждой стороны. По той же причине также может происходить великий эффект проходов во многих наших старых соборах. Форма креста, используемая в некоторых церквях, кажется мне не такой подходящей, как параллелограмм древних; по крайней мере, я полагаю, это не совсем подходит для внешнего мира. Ибо, если предположить, что стороны креста во всех отношениях равны, если вы стоите в направлении, параллельном какой-либо из боковых стен или колоннад, вместо обмана, делающего здание более протяженным, чем оно есть, вы будете отрезаны от значительного часть (две трети) его фактической длины ; и, чтобы предотвратить всякую возможность развития, плечи креста принимают новое направление, образуют прямой угол с лучом и тем самым полностью отвлекают воображение от повторения прежней идеи.Или предположим, что зритель разместится там, где он может видеть такое здание напрямую, каковы будут последствия? неизбежным следствием будет то, что значительная часть основания каждого угла, образованного пересечением плеч креста, неизбежно должна быть потеряна; все, конечно, должно принять разорванную, несвязанную фигуру; свет должен быть неравным: здесь сильный, а там слабый; без той благородной градации, которую перспектива всегда воздействует на части, расположенные непрерывно по правильной линии.Некоторые или все эти возражения будут выдвигаться против каждой фигуры креста, какой бы точки зрения вы ни придерживались. Я проиллюстрировал их на греческом кресте, в котором эти недостатки проявляются наиболее сильно; но они в некоторой степени появляются во всевозможных крестах. В самом деле, нет ничего более вредного для величия зданий, чем изобилие углов; недостаток очевиден во многих; и из-за чрезмерной жажды разнообразия, которая, когда она преобладает, обязательно оставит очень мало истинного вкуса.
РАЗДЕЛ X.
МАГНИТНОСТЬ В ЗДАНИИ.
Для возвышенного в строительстве величие измерения кажется необходимым; ибо в некоторых частях, и в этих маленьких, воображение не может подняться до какой-либо идеи бесконечности. Никакое величие в манере не может эффективно компенсировать недостаток надлежащих размеров. Это правило не опасно втягивать мужчин в экстравагантные замыслы; он несет в себе свою осторожность. Потому что слишком большая длина зданий разрушает цель величия, которую они должны были продвигать; перспектива будет уменьшать его высоту по мере увеличения длины; и доведет его наконец до точки; превращение всей фигуры в своего рода треугольник, худший по своему эффекту из почти любой фигуры, которую можно представить глазу.Я когда-либо наблюдал, что колоннады и аллеи из деревьев средней длины были, вне всякого сравнения, гораздо более величественными, чем когда их заставляли бежать на огромные расстояния. Настоящий художник должен щедро обмануть зрителей и простыми методами создать самые благородные проекты. Дизайн, который огромен только своими размерами, всегда является признаком обычного и низкого воображения. Никакое произведение искусства не может быть великим, кроме как обманывающего; быть иначе — прерогатива только природы. Хороший глаз зафиксирует среднюю между чрезмерной длиной или высотой (ибо одно и то же возражение направлено против обоих) и короткой или неполной величиной: и, возможно, это можно было бы установить с терпимой степенью точности, если бы моей целью было спуститься вниз. вдалеке в подробности любого искусства.
РАЗДЕЛ XI.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ В ПРИЯТНЫХ ОБЪЕКТАХ.
Бесконечность, хотя и иного рода, вызывает большую часть нашего удовольствия от приятных, а также нашего восхищения возвышенными образами. Весна — самое приятное время года; и детеныши большинства животных, хотя и далеко не полностью сформированы, вызывают более приятное ощущение, чем взрослые; потому что воображение развлекается обещанием чего-то большего и не соглашается с существующим объектом чувства.В незавершенных набросках рисунков я часто видел что-то, что меня радовало, помимо лучшей обработки; и я считаю, что это происходит из дела, которое я только что назначил.
РАЗДЕЛ XII.
ТРУДНОСТЬ.
Еще один источник величия — сложность . Когда кажется, что для выполнения какой-либо работы требуются огромные силы и труд, идея велика. В Стоунхендже нет ничего восхитительного ни по нраву, ни по украшению; но эти огромные грубые груды камня, поставленные вертикально и наваленные друг на друга, обращают внимание на огромную силу, необходимую для такой работы.Нет, грубость работы усиливает эту причину величия, поскольку исключает идею искусства и изобретательности; поскольку ловкость производит эффект другого рода, который достаточно отличается от этого.
РАЗДЕЛ XIII.
ВЕЛИКОЛЕПНОСТЬ.
Великолепие также является источником возвышенного. Изобилие вещей, которые сами по себе великолепны или ценны, — это great . Звездное небо, хотя на наш взгляд оно встречается очень часто, всегда возбуждает представление о величии.Это не может быть связано с самими звездами, рассматриваемыми отдельно. Число, безусловно, является причиной. Явный беспорядок увеличивает величие, поскольку вид заботы сильно противоречит нашим представлениям о великолепии. Кроме того, звезды лежат в таком очевидном замешательстве, что в обычных случаях их невозможно сосчитать. Это дает им преимущество в виде бесконечности. В произведениях искусства подобного рода величие, состоящее в множестве, следует допускать очень осторожно; потому что изобилие прекрасных вещей невозможно достичь или с большим трудом; и потому, что во многих случаях эта великолепная путаница уничтожила бы всякое использование, к которому в большинстве произведений искусства следует относиться с величайшей осторожностью; кроме того, следует учитывать, что, если вы не можете создать видимость бесконечности своим беспорядком, у вас будет беспорядок только без великолепия.Однако есть своего рода фейерверк и некоторые другие вещи, которые в этом случае имеют успех и действительно грандиозны. Есть также много описаний у поэтов и ораторов, которые обязаны своим величием богатству и обилию образов, в которых ум настолько ослеплен, что становится невозможным следить за той точной связностью и согласованностью аллюзий, которую мы должны требовать в любом другом случае. Я сейчас не припомню более яркого примера этого, чем описание царской армии в пьесе Генриха IV.: —
«Все с мебелью, с оружием в руках,
Все с перьями, как страусы, плывущие по ветру
Наживлены, как орлы, недавно купавшиеся:
Мы полны духа в мае месяце
И великолепна, как солнце в разгаре лета,
Бездомные, как молодые козлы, дикие, как молодые бычки.
Я видел юного Гарри с его бобрами на
Поднимитесь из земли, как пернатый Меркурий;
И с такой легкостью вскочил на свое место,
Как будто ангел спустился с облаков
Повернуть и накрутить огненного Пегаса.”
В этой замечательной книге «Мудрость Сына Сираха», столь замечательной живостью описаний, а также основательностью и проницательностью предложений, есть благородный панегирик первосвященнику Симону, сыну Онии; и это прекрасный пример рассматриваемого нами вопроса: —
Как было он чествовал в среди из человек , в своем выходе из святилища! Он был как утренняя звезда посреди облака и как луна в полной мере; как солнце, освещающее храм Всевышнего, и как радуга, светящаяся в ярких облаках, и как цветок роз весной года, как лилии при реках вод, и как ладан летом; как огонь и ладан в кадильнице и как золотой сосуд, украшенный драгоценными камнями; как прекрасная маслина, на которой появляются плоды, и как кипарис, вырастающий до облаков.Когда он оделся в одежду чести и облекся в совершенство славы, когда он подошел к святому жертвеннику, он сделал одежду святости почетной. Сам он стоял у очага жертвенника, окруженный своими братьями; как молодой кедр в Ливане, и как пальмы окружали его. Так были все сыновья Аарона в их славе и жертвы Господа в руках их и т. Д.
РАЗДЕЛ XIV.
СВЕТ.
Рассмотрев расширение, насколько оно способно породить идеи величия; Далее рассматривается цвет . Все цвета зависят от света . Поэтому свет следует предварительно исследовать; а с ним его противоположность — тьма. Что касается света, чтобы сделать его причиной, способной производить возвышенное, к нему должны быть приложены некоторые обстоятельства, помимо его простой способности показывать другие объекты. Простой свет слишком обычен, чтобы произвести сильное впечатление на ум, а без сильного впечатления ничто не может быть возвышенным.Но такой свет, как свет солнца, сразу же воздействующий на глаз, поскольку он подавляет чувство, — очень хорошая идея. Свет меньшей силы, чем этот, если он движется с большой скоростью, имеет такую же силу; ибо молния, несомненно, производит величие, которым она обязана главным образом чрезвычайной скоростью своего движения. Быстрый переход от света к тьме или от тьмы к свету дает еще больший эффект. Но тьма производит более возвышенные идеи, чем свет. В этом был убежден наш великий поэт; и действительно, он был так полон этой идеи, так всецело одержим силой хорошо управляемой тьмы, что при описании явления Божества среди того обилия великолепных образов, которое величие его предмета побуждает его излить со всех сторон он далек от того, чтобы забыть о мраке, окружающем самое непостижимое из всех существ, но
«С величием тьма круглая
Кружит свой трон.”
И, что не менее примечательно, у нашего автора был секрет сохранения этой идеи, даже когда он, казалось, максимально отошел от нее, когда он описывает свет и славу, которые исходят от Божественного присутствия; свет, который самим своим избытком превращается в разновидность тьмы: —
« Темный с чрезмерным светлым Появляются твои юбки».
Это идея не только в высшей степени поэтическая, но и строго и философски справедливая. Сильный свет, преодолевая органы зрения, стирает все предметы, так что по своему действию он в точности напоминает тьму.После некоторого взгляда на солнце, два черных пятна, впечатление, которое оно оставляет, словно танцуют на наших глазах. Таким образом, две идеи являются настолько противоположными, насколько это можно вообразить, примирившимися в крайностях обеих; и оба, несмотря на их противоположную природу, пришли к согласию в создании возвышенного. И это не единственный случай, когда противоположные крайности одинаково действуют в пользу возвышенного, которое во всем не терпит посредственности.
РАЗДЕЛ XV.
СВЕТ В ЗДАНИИ.
Поскольку управление светом имеет важное значение в архитектуре, стоит поинтересоваться, насколько это замечание применимо к строительству. Я думаю, что все здания, рассчитанные на создание представления о возвышенном, должны быть скорее темными и мрачными, и это по двум причинам; Первая состоит в том, что в других случаях темнота, как известно, оказывает большее влияние на страсти, чем свет. Во-вторых, чтобы сделать объект очень ярким, мы должны сделать его как можно более отличным от объектов, с которыми мы непосредственно познакомились; Поэтому когда вы входите в здание, вы не можете попасть в более яркий свет, чем на открытом воздухе; войти в одну, на несколько градусов менее яркую, можно сделать лишь незначительное изменение; но чтобы сделать переход совершенно поразительным, вы должны перейти от величайшего света к той тьме, которая совместима с использованием архитектуры.Ночью действует противоположное правило, но по той же причине; и чем сильнее освещена комната, тем грандиознее будет страсть.
РАЗДЕЛ XVI.
ЦВЕТ, РАССМАТРИВАЕМЫЙ КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЕРСИИ.
Среди цветов, например, мягкие или веселые (кроме, возможно, яркого красного, который является веселым), они не подходят для создания грандиозных образов. Огромная гора, покрытая сияющей зеленой травой, в этом отношении ничто по сравнению с темным и мрачным; облачное небо грандиознее синего; и ночь возвышеннее и торжественнее дня.Следовательно, в исторической живописи веселая или безвкусная драпировка никогда не будет иметь положительного эффекта: а в зданиях, когда предполагается высшая степень возвышенного, материалы и украшения не должны быть ни белыми, ни зелеными, ни желтыми, ни синими, ни бледно-красного, ни фиолетового, ни пятнистого, а грустного и яркого цвета, такого как черный, или коричневый, или темно-фиолетовый, и тому подобное. Большая часть позолоты, мозаики, живописи или статуй мало способствует возвышенному. Это правило не нужно применять на практике, за исключением случаев, когда должна быть произведена единообразная степень наиболее поразительной возвышенности, и это в каждом отдельном случае; ибо следует отметить, что этот меланхолический вид величия, хотя он, несомненно, является высочайшим, не следует изучать во всех видах зданий, где все же следует изучать величие; в таких случаях возвышенность должна быть получена из других источников; однако со строгой осторожностью против всего легкого и яркого; поскольку ничто так эффективно не притупляет вкус возвышенного.
РАЗДЕЛ XVII.
ЗВУК И ГРОМКОСТЬ.
Глаз — не единственный орган ощущения, с помощью которого можно вызвать возвышенную страсть. В них, как и во многих других страстях, огромная сила. Я не имею в виду слова, потому что слова влияют не просто своими звуками, а совершенно разными способами. Одной лишь чрезмерной громкости достаточно, чтобы пересилить душу, приостановить ее действие и наполнять ее ужасом. Шум огромных водопадов, бушующих бурь, грома или артиллерийских орудий пробуждает в уме сильнейшее и ужасное ощущение, хотя мы не видим никакой изящности или искусности в таких видах музыки.Крик множества людей имеет такой же эффект; и единственная сила звука настолько поражает и сбивает с толку воображение, что в этом шатании и спешке ума самые устоявшиеся нравы с трудом могут удержаться, чтобы их подавить и объединить в общем крике и общем решении проблемы. толпа.
РАЗДЕЛ XVIII.
ВНЕЗАПНОСТЬ.
Внезапное начало или внезапное прекращение звука любой значительной силы имеет такую же силу. Это пробуждает внимание; и способности продвигались вперед как бы настороже.Все, что бы ни происходило, будь то образы или звуки, облегчает переход из одной крайности в другую, не вызывает ужаса и, следовательно, не может быть причиной величия. Мы склонны начинать все внезапно и неожиданно; то есть у нас есть ощущение опасности, и наша природа побуждает нас остерегаться ее. Можно заметить, что один звук некоторой силы, хотя и короткой продолжительности, если его повторять через определенные промежутки времени, оказывает большое влияние. Мало что может быть ужаснее, чем бой огромных часов, когда ночная тишина не дает вниманию слишком рассеяться.То же самое можно сказать и об одиночном ударе по барабану, повторяемом с паузами; и о последовательной стрельбе из пушки на расстоянии. Все эффекты, упомянутые в этом разделе, имеют почти одинаковые причины.
РАЗДЕЛ XIX.
ПЕРЕРЫВ.
Низкий, дрожащий, прерывистый звук, хотя кажется, в некоторых отношениях, противоположный только что упомянутому, производит возвышенное. Стоит немного изучить это. Сам факт должен определяться собственным опытом и размышлениями каждого человека.Я уже заметил, что эта ночь усиливает наш ужас, возможно, больше, чем что-либо другое; в нашей природе, когда мы не знаем, что может с нами случиться, бояться худшего, что может случиться; и поэтому неопределенность настолько ужасна, что мы часто пытаемся избавиться от нее, рискуя определенным вредом. Некоторые тихие, неясные, неуверенные звуки оставляют нас в таком же ужасающем беспокойстве относительно их причин, как отсутствие света или неопределенный свет в отношении окружающих нас объектов …
Но свет то появляется, то покидает нас, и так далее, еще страшнее, чем полная тьма; и своего рода неуверенные звуки, когда необходимые предрасположенности совпадают, более тревожны, чем полная тишина.
РАЗДЕЛ XX.
ПЛАК ЖИВОТНЫХ.
Такие звуки, как имитирующие естественные нечленораздельные голоса людей или любых животных, находящихся в боли или опасности, способны передавать великие идеи; если только это не общеизвестный голос какого-нибудь существа, на которое мы привыкли смотреть с презрением. Гневные тона диких зверей одинаково способны вызвать великие и ужасные ощущения…
Может показаться, что эти звуковые модуляции несут некоторую связь с природой вещей, которые они представляют, а не просто произвольны; потому что естественные крики всех животных, даже тех животных, с которыми мы не были знакомы, никогда не перестают быть понятыми; этого нельзя сказать о языке.Изменения звука, которые могут производить возвышенное, почти бесконечны. Те, что я упомянул, — это всего лишь несколько примеров, показывающих, на каких принципах все они построены.
РАЗДЕЛ XXI.
ЗАПАХ И ВКУС. — ГОРЬКИ И СТЕНЧИ.
Запахи и вкусы тоже имеют некоторую долю в идеях величия; но он маленький, слабый по своей природе и ограниченный в своих действиях. Я только замечу, что никакие запахи или вкусы не могут вызвать сильного ощущения, кроме чрезмерной горечи и невыносимого зловония.Верно, что эти чувства обоняния и вкуса, когда они в полной мере проявляются и опираются непосредственно на сенсорное восприятие, просто болезненны и не сопровождаются никаким восторгом; но когда они умерены, как в описании или повествовании, они становятся источниками возвышенного, такого же подлинного, как и любое другое, и основываются на том же принципе умеренной боли. «Чаша горечи»; «Осушить горькую чашу удачи»; «Горькие яблоки Содома»; это все идеи, подходящие для возвышенного описания.
…. [I] t — это один из тестов, с помощью которого нужно проверять возвышенность образа, а не то, становится ли он злым, когда он ассоциируется с низкими идеями; но поддерживается ли вся композиция достоинством в сочетании с изображениями допустимого величия. Ужасные вещи всегда велики; но когда вещи обладают неприятными качествами или такими, которые действительно имеют некоторую степень опасности, но опасность легко преодолеть, они просто отвратительны ; как жабы и пауки.
РАЗДЕЛ XXII.
ЧУВСТВО. — БОЛЬ.
Из чувства можно сказать немного больше, чем то, что идея телесной боли во всех формах и степенях труда, боли, страдания, мучения является продуктом возвышенного; и ничто другое в этом смысле не может его произвести. Мне нет необходимости приводить здесь какие-либо свежие примеры, поскольку приведенные в предыдущих разделах обильно иллюстрируют замечание, которое на самом деле требует от всех только внимания к природе.
Пройдя таким образом по причинам возвышенного в отношении всех чувств, мое первое наблюдение (разд.7) окажется почти верным; что возвышенное — это идея самосохранения; что, следовательно, это одно из самых впечатляющих, которые у нас есть; что его самая сильная эмоция — это эмоция дистресса; и что ему не принадлежит никакого удовольствия от положительной причины.
P ART III.
РАЗДЕЛ XII.
НАСТОЯЩАЯ ПРИЧИНА КРАСОТЫ.
Попытавшись показать, чем не является красота, нам остается исследовать, хотя бы с равным вниманием, в чем она состоит на самом деле.Красота — вещь слишком трогательная, чтобы не зависеть от каких-то положительных качеств. И поскольку это не порождение нашего разума, поскольку оно поражает нас без какого-либо упоминания об использовании, и даже там, где вообще не может быть обнаружено никакой пользы, поскольку порядок и метод природы обычно сильно отличаются от наших мер и пропорций, мы должны пришли к выводу, что красота — это, по большей части, некоторое качество тел, механически воздействующих на человеческий разум посредством вмешательства чувств. Поэтому нам следует внимательно рассмотреть, каким образом эти чувственные качества расположены в таких вещах, которые мы находим красивыми по опыту или которые возбуждают в нас страсть любви или соответствующую привязанность.
РАЗДЕЛ XIII.
КРАСИВЫЕ ОБЪЕКТЫ МАЛОГО.
Самый очевидный момент, который возникает перед нами при исследовании любого объекта, — это его размер или количество. А какая степень протяженности преобладает в телах, которые считаются красивыми, можно понять из обычного способа выражения этого. Мне сказали, что на большинстве языков объекты любви используются крошечными эпитетами. Так обстоит дело со всеми языками, которые я знаю. В греческом [греч .: ion] и другие уменьшительные термины почти всегда означают привязанность и нежность.Эти уменьшительные падежи обычно добавлялись греками к именам людей, с которыми они разговаривали в дружеских и дружеских отношениях. Хотя римляне были людьми менее быстрых и тонких чувств, тем не менее они, естественно, в тех же случаях, естественно, скатывались к ослаблению. В древности в английском языке убывающая цифра лин добавлялась к именам людей и вещей, которые были объектами любви. Некоторые из них мы сохраняем до сих пор, как darling (или little darling), а некоторые другие.Но по сей день в обычном разговоре принято добавлять милое имя little ко всему, что мы любим; французы и итальянцы используют эти ласковые уменьшительные формы даже больше, чем мы. В животном творении, за пределами нашего собственного вида, мы склонны любить именно малое; маленькие птицы и некоторые из более мелких зверей. «Великая прекрасная вещь» — это способ выражения, который почти никогда не использовался; но очень уродливое дело. Между восхищением и любовью существует большая разница.Возвышенное, являющееся причиной первого, всегда сосредоточено на великих и ужасных объектах; последнее на маленьких и приятных; мы подчиняемся тому, чем восхищаемся, но любим то, что нам подчиняется; в одном случае нас принуждают, в другом — льстят. Короче говоря, идеи возвышенного и прекрасного стоят на столь разных основаниях, что трудно, я почти сказал, что это невозможно, думать о том, чтобы примирить их в одном и том же предмете без значительного уменьшения воздействия того или другого на страсти.Так что, судя по количеству, красивые предметы сравнительно малы.
РАЗДЕЛ XIV.
ГЛАДКОСТЬ.
Следующее свойство, постоянно наблюдаемое в таких объектах: гладкость ; качество, столь необходимое для красоты, что сейчас я не припоминаю ничего прекрасного, что не было бы гладким. У деревьев и цветов красивы гладкие листья; ровные откосы земли в садах; плавные ручьи в ландшафте; гладкие шубы птиц и зверей в звериных красавицах; у прекрасных женщин — гладкая кожа; и в нескольких видах декоративной мебели — гладкие и полированные поверхности.Очень значительная часть эффекта красоты происходит благодаря этому качеству; действительно самый значительный. Ибо возьмите любой красивый предмет и дайте ему сломанную и неровную поверхность; и, как бы хорошо он ни был сформирован в других отношениях, он больше не радует. Принимая во внимание, что пусть он хочет столько других составляющих, если он не хочет этого, он становится более приятным, чем почти все остальные без этого. Это кажется мне настолько очевидным, что я очень удивлен, что никто из тех, кто имел дело с этим предметом, не упомянул о качестве гладкости при перечислении тех, которые связаны с формированием красоты.В самом деле, любая неровность, любой внезапный выступ, любой острый угол в высшей степени противоречат этой идее.
РАЗДЕЛ XV.
ПОСТЕПЕННАЯ ВАРИАЦИЯ.
Но поскольку идеально красивые тела не состоят из угловатых частей, их части никогда не продолжаются долго на одной прямой линии. Они меняют свое направление каждую секунду, и они меняются на глазах из-за постоянно продолжающегося отклонения, но чье начало или конец вам будет трудно определить.Изображение красивой птицы проиллюстрирует это наблюдение. Здесь мы видим, как голова незаметно увеличивается к середине, откуда она постепенно уменьшается, пока не смешается с шеей; шея теряется в более крупном вздутии, которое продолжается до середины тела, когда все снова уменьшается к хвосту; хвост принимает новое направление, но вскоре он меняет свой новый курс, снова сливается с другими частями, и линия постоянно меняется вверху, внизу, со всех сторон. В этом описании передо мной идея голубя; это очень хорошо согласуется с большинством условий красоты.Он гладкий и пушистый; его части (если использовать это выражение) слиты друг с другом; вы не видите внезапного выпячивания через целое, но все же целое постоянно меняется. Обратите внимание на ту часть красивой женщины, где она, пожалуй, самая красивая, — на шею и грудь; гладкость, мягкость, легкий и незаметный набухание; разнообразие поверхности, которое никогда не бывает одинаковым для самого маленького помещения; обманчивый лабиринт, по которому неустойчивый глаз головокружительно скользит, не зная, куда его направить и куда его нести.Разве это не демонстрация того изменения поверхности, непрерывного и, тем не менее, почти незаметного в любой точке, которое составляет одну из великих составляющих красоты? Мне доставляет немалое удовольствие обнаружить, что я могу усилить свою теорию в этом вопросе мнением очень гениального мистера Хогарта, чье представление о линии красоты я считаю в целом чрезвычайно справедливым. Но идея вариации, не обращая столь точного внимания на манеру, вариации, привела его к тому, что угловые фигуры были прекрасны; Эти фигуры, правда, сильно различаются, но все же они меняются внезапно и прерывисто, и я не нахожу никаких природных объектов, которые были бы угловатыми и в то же время красивыми.Действительно, очень немногие природные объекты имеют полностью угловатую форму. Но я думаю, что те, которые ближе всего подходят к этому, самые уродливые. Я должен также добавить, что, поскольку я мог наблюдать за природой, хотя разнообразная линия — это та единственная линия, в которой обнаруживается полная красота, все же нет особой линии, которая всегда встречается в самом совершенном прекрасном, и которая поэтому красивее, чем все остальные линии. По крайней мере, я никогда не мог этого наблюдать.
РАЗДЕЛ XVI.
Деликатес.
Вид прочности и силы очень вреден для красоты. Для него почти необходим внешний вид деликатности и даже хрупкость. Кто бы ни исследовал растительное или животное творение, обнаружит, что это наблюдение основано на природе. Мы считаем красивыми не дуб, ясень, вяз или какое-либо крепкое дерево в лесу; они ужасны и величественны, они вызывают какое-то благоговение. Это нежный мирт, это апельсин, это миндаль, это жасмин, это виноградная лоза, на которую мы смотрим как на растительные красоты.Именно этот цветочный вид, столь замечательный своей слабостью и кратковременностью, дает нам живейшее представление о красоте и элегантности. Среди животных борзая красивее мастифа, а нежность дженнета, шипа или арабской лошади гораздо приятнее, чем сила и устойчивость некоторых боевых или упряжных лошадей. Мне нужно здесь мало говорить о прекрасном полу, и я думаю, что это будет легко разрешено. Красота женщин в значительной степени обусловлена их слабостью или нежностью и даже усиливается их робостью, аналогичным ей качеством ума.Здесь меня не поймут, чтобы сказать, что слабость, выдающая очень плохое здоровье, имеет какое-то отношение к красоте; но плохой эффект этого не потому, что это слабость, а потому, что плохое состояние здоровья, которое вызывает такую слабость, изменяет другие состояния красоты; детали в таком случае разрушаются, яркий цвет, цвет lumen purpureum juventæ исчезает, а мелкие вариации теряются в морщинах, внезапных изломах и прямых линиях.
РАЗДЕЛ XVII.
КРАСОТА В ЦВЕТЕ.
Что касается цветов, обычно встречающихся в красивых телах, их бывает довольно трудно определить, потому что в разных частях природы существует бесконечное разнообразие. Однако даже в этом разнообразии мы можем выделить кое-что, на чем следует остановиться. Во-первых, цвета красивых тел не должны быть тусклыми или мутными, а должны быть чистыми и светлыми. Во-вторых, они не должны быть самыми сильными. Те, что кажутся наиболее подходящими для красоты, более мягкие из всех; светло-зелень; мягкий блюз; слабые белые; розово-красные; и фиалки.В-третьих, если цвета сильные и яркие, они всегда разнообразны, и объект никогда не бывает одного яркого цвета; их почти всегда так много (как у пестрых цветов), что сила и яркость каждого значительно ослабевают. У красивой кожи есть не только некоторое разнообразие в окраске, но и в цветах: ни красный, ни белый не являются яркими и яркими. Кроме того, они смешаны таким образом и с такими градациями, что невозможно установить границы. По тому же принципу сомнительный цвет шеи и хвоста павлинов, а также головы селезня очень приятен.На самом деле красота формы и окраски настолько близки, насколько мы можем предположить, что вещи столь разной природы могут быть.
РАЗДЕЛ XVIII.
РЕКАПИТУЛЯЦИЯ.
В целом, качества красоты, поскольку они являются просто чувственными качествами, следующие: во-первых, быть сравнительно небольшими. Во-вторых, чтобы было гладко. В-третьих, чтобы было разнообразие по направлению частей; но, в-четвертых, чтобы эти части не были угловатыми, а как бы сплавлены друг с другом.В-пятых, иметь хрупкую структуру без какой-либо заметной силы. В-шестых, чтобы его цвета были чистыми и яркими, но не очень яркими и яркими. В-седьмых, или, если у него должен быть какой-то яркий цвет, чтобы он разнообразился с другими. Я считаю, что это те свойства, от которых зависит красота; свойства, которые действуют по своей природе и в меньшей степени подвержены изменению по прихоти или изменению вкусов, чем любые другие.
РАЗДЕЛ XIX.
ФИЗИОГНОМИЯ.
Физиогномика имеет значительную долю красоты, особенно в нашем собственном виде. Манеры придают определенную решимость лицу; которые, как замечено довольно регулярно им соответствуют, способны объединять действие определенных приятных качеств ума с качествами тела. Итак, чтобы сформировать законченную человеческую красоту и дать ей полное влияние, лицо должно выражать такие нежные и приятные качества, которые соответствуют мягкости, гладкости и нежности внешней формы.
РАЗДЕЛ XX.
ГЛАЗ.
Я до сих пор намеренно опускал упоминание о глазе , который играет столь большую роль в красоте животного творения, поскольку он не так легко подпадал под вышеупомянутые головы, хотя на самом деле он сводится к тем же принципам . Я думаю, что красота глаза состоит, во-первых, в его ясности ; какой глаз цветной понравится больше всего, во многом зависит от конкретных прихотей; но никому не нравятся глаза, вода которых (если использовать этот термин) тусклая и мутная.С этой точки зрения нас радует взгляд, исходя из принципа, по которому мы любим алмазы, чистую воду, стекло и тому подобное. Во-вторых, движение глаза способствует его красоте, постоянно меняя направление; но медленное и вялое движение красивее бойкого; последнее оживляет; бывшая прекрасная. В-третьих, в отношении соединения глаза с соседними частями следует придерживаться того же правила, что и для других прекрасных глаз; нельзя делать сильного отклонения от линии соседних частей; ни граничить с какой-либо точной геометрической фигурой.Помимо всего этого, глаз влияет, поскольку он выражает некоторые качества ума, и его основная сила обычно проистекает из этого; так что здесь применимо то, что мы только что сказали о физиогномике.
РАЗДЕЛ XXI.
УЖЕСТВО.
Возможно, это может показаться своего рода повторением того, что мы сказали ранее, настаивать здесь на природе уродства ; как я полагаю, это во всех отношениях противоположно тем качествам, которые мы заложили для составляющих красоты.Но хотя уродство противоположно красоте, оно не противоречит пропорциям и фитнесу. Ведь вполне возможно, что вещь может быть очень уродливой с любыми пропорциями и идеально подходящей для любого использования. Я полагаю, что уродство также достаточно согласуется с идеей возвышенного. Но я ни в коем случае не стал бы намекать на то, что уродство само по себе является возвышенной идеей, если оно не соединено с такими качествами, которые вызывают сильный ужас.
РАЗДЕЛ XXII.
GRACE.
Изящность — идея, не очень отличная от красоты; он состоит во многом из одного и того же.Изящность — это идея, принадлежащая к позе и движению . В обоих случаях, чтобы быть изящными, необходимо, чтобы не было никаких затруднений; требуется небольшой перегиб тела; и уравновешенность частей таким образом, чтобы они не мешали друг другу, чтобы не казаться разделенными резкими и внезапными углами. В данном случае в этой округлости, в этой деликатности положения и движения состоит вся магия изящества, и в том, что называется ее je ne sçai quoi ; это будет очевидно для любого наблюдателя, который внимательно рассматривает Венеру Медичскую, Антиноя или любую статую, которой обычно позволено быть в высокой степени изящной.
РАЗДЕЛ XXIII.
ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ОСОБЕННОСТЬ.
Когда какое-либо тело состоит из гладких и полированных частей, не прижимающих друг к другу, не проявляя какой-либо шероховатости или путаницы, и в то же время влияя на некоторую правильную форму , я называю его элегантным . Он тесно связан с прекрасным, отличаясь от него только этой закономерностью ; который, однако, так как имеет очень существенное различие в порождаемой привязанности, вполне может составлять другой вид.К этому заголовку я причисляю те изящные и правильные произведения искусства, которые не имитируют никаких определенных объектов в природе, как элегантные здания и предметы мебели. Когда какой-либо объект обладает вышеупомянутыми качествами или качествами прекрасного тела и, кроме того, имеет большие размеры, он так же далек от идеи простой красоты; Я называю штраф или видимость .
РАЗДЕЛ XXIV.
КРАСИВЫЕ ЧУВСТВАМИ.
Приведенное выше описание красоты, поскольку оно воспринимается глазом, может быть хорошо проиллюстрировано описанием природы предметов, которые производят аналогичный эффект через прикосновение.Я называю это прекрасным в чувством . Это прекрасно сочетается с тем, что вызывает такое же удовольствие зрелище. Во всех наших ощущениях есть цепь; все они представляют собой разные виды чувств, рассчитанных на то, чтобы на них воздействовали различные типы объектов, но на все они воздействуют одинаковым образом. Все тела, приятные на ощупь, таковы из-за незначительного сопротивления, которое они оказывают. Сопротивление проявляется либо к движению по поверхности, либо к давлению частей друг на друга: если первое незначительно, мы называем тело гладким; если последнее, то мягкое.Главное удовольствие, которое мы получаем от чувства, заключается в том или ином из этих качеств; и если будет сочетание того и другого, наше удовольствие значительно возрастет. Это настолько очевидно, что больше подходит для иллюстрации других вещей, чем для иллюстрации самого себя на примере. Следующим источником удовольствия в этом смысле, как и во всех других, является постоянное представление чего-то нового; и мы обнаруживаем, что тела, поверхность которых постоянно меняется, кажутся наиболее приятными или красивыми для ощущений, какие может испытать любой, кто нравится.Третье свойство таких объектов состоит в том, что, хотя поверхность постоянно меняет свое направление, она никогда не меняет его внезапно. Применение чего-либо внезапного, даже если в самом впечатлении мало или совсем нет насилия, неприятно. Быстрое прикосновение к пальцу чуть теплее или холоднее, чем обычно, без уведомления заставляет нас вздрогнуть; легкое похлопывание по плечу, которого не ожидали, имеет тот же эффект. Следовательно, угловатые тела, тела, которые внезапно меняют направление контуров, доставляют так мало удовольствия ощущениям.Каждое такое изменение — это своего рода восхождение или падение в миниатюре; так что квадраты, треугольники и другие угловатые фигуры не красивы ни для зрения, ни для ощущений. Тот, кто сравнивает свое состояние ума при ощущении мягких, гладких, разнообразных, неугловатых тел с тем, в котором он находится, при взгляде на красивый объект, увидит очень поразительную аналогию в действии обоих; и которые могут способствовать раскрытию их общего дела. Чувство и зрение в этом отношении различаются лишь в нескольких моментах.Прикосновение вызывает удовольствие от мягкости, которая не является главным объектом взгляда; зрение, с другой стороны, постигает цвет, который едва ли можно сделать ощутимым для прикосновения: прикосновение, опять же, дает преимущество в новом представлении об удовольствии, возникающем в результате умеренной степени тепла; но глаз торжествует в бесконечном размахе и множестве своих объектов. Но в удовольствиях этих чувств есть такое сходство, что я склонен вообразить, если бы можно было различить цвета по ощущениям (как говорят некоторые слепые), что те же цвета и те же расположение красок, которые кажутся красивыми на вид, также были бы наиболее приятными на ощупь.Но, оставив домыслы, перейдем к другому смыслу; слуха.
РАЗДЕЛ XXV.
ПРЕКРАСНЫЙ ЗВУК.
В этом смысле мы находим одинаковую склонность к мягкому и деликатному воздействию; и насколько сладкие или красивые звуки согласуются с нашими описаниями красоты в других смыслах, каждый должен решить. Милтон описал этот вид музыки в одном из своих детских стихотворений. Нет нужды говорить, что Милтон прекрасно разбирался в этом искусстве; и что ни у кого не было более тонкого уха и более счастливой манеры выражения привязанности одного чувства с помощью метафор, взятых из другого.Описание следующее: —
«И всегда против заботы о еде,
Обними меня мягкими Лидийскими ариями;
В купюрах с множеством обмоток витков
Из связанных сладостей длинной вытянутой out;
Withwantonheed, andgiddycunning,
тает голос через лабиринтов бега;
Раскрутка все цепи, которые связывают
Скрытая душа гармонии ».
Давайте сравним это с мягкостью, извилистой поверхностью, непрерывностью, легкой градацией прекрасного в других вещах; и все разнообразие различных чувств со всеми их различными привязанностями скорее поможет пролить свет друг на друга, чтобы завершить одно ясное, последовательное представление о целом, чем затемнить его своей сложностью и разнообразием.
К приведенному выше описанию добавлю одно или два замечания. Первый; что прекрасное в музыке не услышит той громкости и силы звуков, которые могут быть использованы для возбуждения других страстей; ни резких, резких или глубоких нот; он лучше всего согласуется с ясными, ровными, гладкими и слабыми. Второй: это большое разнообразие и быстрые переходы от одного такта или тона к другому противоречат гению прекрасного в музыке. Такие переходы часто вызывают веселье или другие внезапные или бурные страсти; но не то опускание, то таяние, то томление, которое является характерным эффектом прекрасного во всех смыслах.Страсть, возбуждаемая красотой, ближе к меланхолии, чем к веселью и веселью. Я не собираюсь ограничивать музыку каким-либо одним видом нот или тонов, и это не искусство, в котором я могу сказать, что обладаю большим мастерством. Моя единственная цель в этом замечании — выработать устойчивое представление о красоте. Бесконечное разнообразие душевных привязанностей подсказывает хорошей голове и искусному уху множество звуков, способных их поднять. Не может быть никакого предубеждения к этому, чтобы прояснить и различить несколько деталей, принадлежащих к одному и тому же классу и согласующихся друг с другом, из огромной массы различных, а иногда и противоречащих друг другу идей, которые вульгарно относятся к стандарту красоты.И из них я намерен отметить только те основные моменты, которые показывают соответствие слуха всем другим чувствам в статье об их удовольствиях.
РАЗДЕЛ XXVI.
ВКУС И ЗАПАХ.
Это общее совпадение чувств становится еще более очевидным при внимательном рассмотрении вкуса и запаха. Мы метафорически применяем идею сладости к изображениям и звукам; но поскольку качества тел, благодаря которым они способны вызывать удовольствие или боль в этих чувствах, не так очевидны, как в других, мы отнесем объяснение их аналогии, которая очень близка, к этой части где мы приходим к рассмотрению общей действенной причины красоты, касающейся всех чувств.Я не думаю, что ничего лучше подходит для установления ясного и устойчивого представления о визуальной красоте, чем этот способ исследования подобных удовольствий других чувств; ибо одна часть иногда ясна в одном из смыслов, а другая — более неясна; и там, где есть явное совпадение всех, мы можем с большей уверенностью говорить о любом из них. Таким образом они свидетельствуют друг о друге; природа как бы исследуется; и мы не сообщаем о ней ничего, кроме того, что получаем из ее собственной информации.
РАЗДЕЛ XXVII.
ВЕЛИКОЕ И КРАСИВОЕ В СРАВНЕНИИ.
Заканчивая этот общий взгляд на красоту, естественно приходит к выводу, что мы должны сравнить его с возвышенным; и в этом сравнении возникает поразительный контраст. Ибо возвышенные объекты огромны в размерах, а красивые сравнительно малы; красота должна быть гладкой и отполированной; великий, суровый и небрежный: красота должна избегать правильной линии, но незаметно отклоняться от нее; великий во многих случаях любит правильную линию; а когда отклоняется, это часто сильно отклоняется: красота не должна быть непонятной; великое должно быть мрачным и мрачным: красота должна быть легкой и утонченной; великое должно быть прочным и даже массивным.Это действительно идеи совершенно разной природы, одна из которых основана на боли, а другая — на удовольствии; и, хотя впоследствии они могут отличаться от непосредственной природы своих причин, все же эти причины поддерживают вечное различие между ними, различие, которое никогда не следует забывать тем, чья задача — воздействовать на страсти. В бесконечном разнообразии естественных комбинаций мы должны ожидать найти качества вещей, наиболее удаленных друг от друга, которые можно вообразить, объединенными в одном объекте. Мы должны ожидать также, что в произведениях искусства найдутся сочетания того же рода.Но когда мы рассматриваем влияние объекта на наши страсти, мы должны знать, что когда что-либо предназначено для воздействия на разум силой какого-то преобладающего свойства, порождаемая привязанность становится более однородной и совершенной, если все остальные свойства или качества объекта имеют ту же природу и имеют тенденцию к тому же замыслу, что и основной объект.
«Если черное и белое смешать, смягчить и объединить
Тысяча способов, нет ли черного и белого? »
Если качества возвышенного и прекрасного иногда встречаются вместе, доказывает ли это, что они одинаковы; доказывает ли это, что они каким-либо образом связаны; Доказывает ли это даже то, что они не противоположны и противоречивы? Черный и белый могут смягчаться, могут сливаться; но поэтому они не то же самое.И когда они так смягчены и смешаны друг с другом или с разными цветами, сила черного как черного или белого как белого не будет такой сильной, как если бы каждый из них был единообразным и отличительным.
Цитирование и использование
CC ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТЕНТ, ПРЕДЫДУЩИЙ РАЗДЕЛ
Sublime — значение, использование, примеры
прилагательное
Идеально или невероятно; вызывая изумление и благоговение своим великолепием или высоким качеством; превышающий обычный опыт или захватывающий
Увеличенные, оформленные или увеличенные по стилю или качеству; предназначен для выражения благородных или небесных идей или реалий
Достоин уважения и признательности; обладающий исключительной честностью или превосходством
Экстремальный или абсолютный
глагол
( Chemistry ) Для перехода из твердого состояния непосредственно в газ, не становясь жидкостью в процессе; также , чтобы такое изменение произошло
( Устаревший ) Для повышения статуса или уважения; сделать что-то превосходное или более достойное
Использование
Лексикографы ценят все слова, но есть несколько, которые действительно заставляют наши страницы перелистывать.Нюансы их определений, широкий диапазон их применения, тонкие способы, которыми их значения могут измениться при малейшем изменении контекста или интонации — когда эти черты сочетаются, они создают лингвистический опыт, который мы находим просто возвышенным . Фактически, sublime — прекрасный пример одного из этих блестящих терминов. Универсальность Sublime позволяет раскрасить любую фразу и дает ораторам гибкий инструмент для использования в разговоре. Это действительно превосходный выбор для любого любителя слов!
Почему sublime возбуждает нас больше, чем Гертруда Стайн предложением, которое нужно нарисовать в виде диаграммы? Начнем с его множества употреблений в качестве прилагательного.В повседневной речи и письме вы, скорее всего, встретите возвышенное , используемое для характеристики чего-либо как невероятного, чрезвычайно красивого или приятного. В этом смысле возвышенное подразумевает, что что-то совершенно необычное, задерживая на время ваше дыхание и доставляя глубокие, вдохновляющие переживания. Возвышенное стихотворение казалось бы трансцендентным по своей силе и лирическому изяществу; Превосходная миска мороженого идеально подошла бы, перенося вас на более высокий уровень сладкого молочного существования жарким летним вечером.Это приложение часто намекает на понятие добродетели или чистоты, предполагая, что все, что описывается, прекрасно, потому что это лучшее, что может быть.
Идея чистоты или трансцендентности на самом деле является повторяющейся темой в различных значениях sublime . Немного другое использование описывает что-то как заслуживающее любви, уважения или преданности, потому что оно чрезвычайно полезно или удивительно, возможно, даже до божественности. Это использование немного более абстрактно — вы можете говорить о возвышенных истинах, которые находятся за пределами понимания смертных, или о возвышенных божествах, которые поражают своей силой и совершенством.Здесь это слово намекает на идеал, что делает его хорошим выбором для определения того, что кажется настолько безупречным, что граничит с невозможным. Интересно, что это использование подразумевает, что все, что нужно любить или уважать, изначально обладает совершенством или добродетелью, а не произвольно приписывается нами, людьми, на основе наших предвзятых ценностей. Возвышенный предмет здесь не нуждается в нас, чтобы превозносить его — он уже намного выше нас.
Однако иногда использование sublime может раскрыть наши собственные, очень человеческие стремления к величию и славе.В этих случаях это слово характеризует нечто осязаемое как намеренно сделанное высоким, формальным или грандиозным по стилю или качеству. Нечто возвышенное в этом смысле — это попытка человека достичь высокого уровня опыта, попытка передать какой-то великий философский смысл или подражать идеалу. Возвышенная речь , например, может быть полна возвышенных формулировок и абстрактных вопросов о природе реальности — это совсем не то же самое, что обычный разговор с другом о спорте или погоде.Подобным образом, возвышенный ритуал будет проводиться для высшей цели; подобно католическому причастию или коронации монарха, он будет пытаться отразить фундаментальные истины и самые благородные нравы.
Sublime может также описать что-то как законченное или существующее в крайней степени. Это значение показывает, насколько это возможно, и часто используется в сочетании с образными или нефизическими качествами. Например, у вас может быть возвышенное отвращение к математике , , если один лишь вид дроби заставляет вас свернуться калачиком в позе эмбриона.
Но в то время как всех этих прилагательных самих по себе было бы достаточно, чтобы перенести лексикографа в его счастливое место, возвышенное также имеет столь же замечательный набор значений как глагол. Из них один из самых полезных — в области химии. Помните, как учили в старшей школе о состояниях материи — твердое, жидкое, газовое и, возможно, плазма? Подобно тому, как жидкость может замерзнуть, превратившись в твердое тело, или пар может конденсироваться в жидкость, при правильных условиях твердое вещество может превратить непосредственно в газ.Это особенно интересный процесс, потому что вещество, которое сублимирует , не должно проходить через промежуточную стадию жидкости, когда его форма разрыхляется. Классическим примером этого является сухой лед, который повсюду помогает театральным постановщикам, превращаясь из блока холодной твердости непосредственно в слегка зловонный пар. возвышенное также может относиться к тому, чтобы подвергнуть материал этому процессу. В некоторых случаях sublime подразумевает, что вскоре после этого происходит обратное, и газ осаждается непосредственно обратно в твердое тело.
Образно говоря, несколько старомодное значение глагола возвышенное относится к действию возвышения чего-либо до более почтенного, изысканного или полезного состояния. Такое использование предполагает, что человек или объект, который когда-то был средним или неполноценным, превратился в нечто более ценное. По сути, для возвышенного что-то в этом смысле должно сделать его более приемлемым; это значит взять что-то низкое и поднять это до более высокого уровня ценности или достоинства.
Наконец, если вы еще не уверены, что sublime , ну, sublime , вот еще одно интересное использование: часто вы услышите слово, функционирующее как существительное во фразе sublime . Мы все время используем глаголы и прилагательные в качестве существительных в повседневном языке, но возвышенное наиболее часто встречается в формальной речи и письме, таком как проповеди и стихи. Большинство говорящих имеют в виду что-то специфическое для контекста, когда они используют возвышенное , но в целом эта фраза относится к абстрактному качеству превосходства, особенно с точки зрения морали или интеллектуальной ценности.Таким образом, для словесных гончих многие аспекты слова возвышенное представляют возвышенное лексикографии.
Пример: Для адреналинового наркомана вроде Роба день катания на американских горках был просто возвышенным .
Пример: Мария стояла в восторге от возвышенного величия древнего леса из красного дерева.
Пример: Свернувшись калачиком в постели, я чувствовал безупречный комфорт.
Пример: Для некоторых красота, обнаруженная в произведениях искусства, созданных руками человека, является более возвышенной , чем учение какой-либо религии.
Пример: Если бы я только мог найти способ возвышенного снега на моей подъездной дорожке, мне никогда бы не пришлось снова лопатой.
Пример: Вы можете попробовать sublime как хотите, но, боюсь, я никогда не увижу их ценности.
Пример: Медитируя шесть часов в день, монах надеялся очистить свой разум и получить доступ к возвышенному .
Сегодня возвышенное часто понимается как «возвышенное» или «трансцендентное»; Следовательно, уместно, что самый ранний предок этого слова, возможно, имел прямое отношение к буквальному «наклону вверх».«Этот предок, латинский sublimis , считается слиянием sub , что означает« вверх », и limen , что означает« перемычка »(перемычка — это горизонтальная конструкция, которая охватывает верх дверного проема. или двух столбов — подумайте о том, чтобы смотреть на верхнюю часть двери или за ее пределы). Однако, независимо от точности этой теории, использование sublimis в конечном итоге расширилось, чтобы включить дополнительные переносные и буквальные значения, такие как «поднятый выше», «уважаемый или почтенный» и «имеющий большую ценность».« Sublime впервые было записано на английском языке в конце 16-го, -го, -го века и означало« интеллектуально благородный или возвышенный ». Фраза the sublime возникла в 1670-х годах.
Sublimes: Эта простая настоящая форма sublime используется, когда единичный субъект от третьего лица повышает статус или ценность чего-либо или преобразует твердое тело непосредственно в газ.
Пример : Учитель химии возгоняет кусок сухого льда для своего класса в начале каждого года.
Пример : Учитель химии возвышает свою науку, называя ее смыслом жизни; его ученики имеют разные мнения по этому поводу.
Sublimed: Sublimed — это претерит sublime , в основном используется, когда что-то было очищено или улучшено, а также когда твердое вещество было преобразовано в газ в прошлом.
Пример : Иоанн считает, что его душа была сублимирована в результате его крещения.
Пример : Увидев сухой лед сублимированный , студенты начали замечать его довольно неприятный запах.
Subliming: Эта современная прогрессивная форма sublime используется, когда кто-то в настоящее время повышает уважение или ценность чего-либо. Его также можно использовать, когда вещество превращается из твердого непосредственно в газ.
Пример : Используя эксперименты, чтобы вдохновить студентов, учитель химии почувствовал, что он сублимировал его в остальном приземленную карьеру.
Пример : Карен должен был признать, что наблюдать, как металл сублимирует , было довольно круто.
Сублимация: Часто используется в психологии, чтобы сублимировать , по сути, означает брать что-то низкое или нежелательное, например гнев или похоть, а возвышать или возвышать это до чего-то, что может приветствоваться или приниматься обществом. Сублимат конъюгирован как сублимированный , сублимированный и сублимированный .
Пример : Шине удалось сублимировать свою нервную энергию в карьеру панк-рокера.
Сублимация: Это существительное относится к социально приемлемому выражению нежелательного или непрактичного побуждения или тенденции.
Пример : Признаюсь: моя любовь к гоночным видеоиграм — это всего лишь сублимация моего желания управлять спортивным автомобилем на невероятной скорости.
Sublimely: Это наречие обычно описывает действие, прилагательное или другое наречие как трансцендентное, внушающее благоговение, чудесное или абсолютное.
Пример : Я с удивлением смотрел, как клоун возвышенно связал некоторых из самых сложных воздушных шаров животных, которых я когда-либо видел.
Пример : К счастью, мы смогли убедить Клару, что бросить работу и стать странствующим аккордеоном-менестрелем было бы возвышенно глупо.
Sublimity: Это существительное описывает нечто выдающееся, вызывающее изумление или высшую оценку. Это также может относиться к случаю внушающего трепет величия или к состоянию невероятного, абсолютного или достойного почитания.
Пример : возвышенность прекрасного сада скульптур, слишком большая для него, чтобы с ним справиться, Сэм разразился ужасно громкими слезами.
Пример : Наши каникулы на Бора-Бора принесли нам одну возвышенность за другой.
Пример : Я всегда буду с нежностью оглядываться на возвышенность , которая была днем моей свадьбы.
Чтение возвышенного может напомнить вам другое слово — подсознательный . Подсознательный — прилагательное, которое означает «происходящее вне сознательного осознания». Что-то вроде гипноза, что-то подсознательное поглощается и обрабатывается вашим мозгом, а вы об этом не подозреваете. Возможно, вы слышали о подсознательных сообщениях или подсознательных рекламе , размещении тонких сигналов в средствах массовой информации, которые якобы заставляют вас желать продукта, даже не задумываясь об этом.
Subliminal и sublime похожи по написанию, но в их современном использовании не так много общего.Однако они имеют схожее происхождение, так как subliminal также образован латинским limen («перемычка»). Присутствие этого корня показывает, что подсознательный предназначен для передачи чего-то, что находится ниже порога или барьера сознания.
Из книги Александра Дюма «Граф Монте-Кристо»:
Для счастливого человека молитва — всего лишь набор слов, пока не придет день, когда печаль объяснит ему возвышенный язык, на котором он говорит с Богом.
Здесь Дюма использует возвышенное , чтобы описать способ, которым человек общается с Богом, как трансцендентный и фундаментально превышающий пределы обычного, слабого языка. Согласно Дюма, только после большой трагедии или невзгод можно овладеть этим языком и таким образом познать Бога.
Из «Критики чистого разума» Иммануила Канта:
В то время как прекрасное ограничено, возвышенное безгранично, так что ум в присутствии возвышенного , пытаясь вообразить то, что он не может, испытывает боль в неудаче, но получает удовольствие от созерцания необъятности попытка.
В этом отрывке Кант использует возвышенное как существительное, чтобы обозначить свою версию абсолютной философской истины. Согласно Канту, эта истина, которую можно уподобить божественному, находится за пределами человеческого понимания; однако он настолько прекрасен по своей природе, что даже пытается понять его, имеет определенную привлекательность.
Раскройте в себе лингвиста! Какова ваша собственная интерпретация sublime .Вы использовали sublime в игре? Приведите пример предложения или литературную цитату.
Зачем заботиться? — Анока Фаруки
Кантовское возвышенное: зачем заботиться?
Кантовское возвышенное: зачем заботиться?
Опубликовано в «Why Theory», Каталог выставки Cal Arts, 2009 г.
Кантовское возвышенное существует как тема, призрак или фольга во многих современных критических текстах об искусстве. Иммануил Кант закладывает основу для образа мышления, который подвергся двухвековой критике.Как отмечает Терри Иглтон, именно в рамках видения Канта «имманентная критика Маркса найдет точку опоры». i Несмотря на упрощение Канта в некоторых современных письмах, фактический текст имеет нюансы и временами противоречив; Кант существует на пороге рационализма и романтизма. Внимательное прочтение текста развеивает понятие чистого формализма; даже в кантианской области концепции красоты и возвышенного берут начало в чувственном опыте, но в конечном итоге утверждают торжество человеческой способности рассуждать.Пересмотр текста Канта кажется особенно актуальным для нашего культурного момента, поскольку такие критики, как Эдвард Саид и Иглтон, пересматривают материальные результаты противостояния антиэссенциалистским теориям. Возможно, самый противоречивый и фантастический аспект текста Канта — утверждение красоты и возвышенного как универсального опыта заслуживает самого вдумчивого исследования.
В своем эссе «Перевернутый вверх дном и разорванный на части» Томас МакЭвилли дает убедительное резюме эволюции возвышенного от Лонгина к модернизму. ii Он отмечает, что ранние идеи возвышенного были связаны с террором. Лонгин, автор греческого текста первого века нашей эры «О возвышенном», который имеет дело с этим термином в отношении области риторики, обсуждает гомеровскую битву богов, описывая силы, обладающие абсолютной силой угрожать уничтожению отдельных существ и гармония вселенной. Таким образом, возвышенное переживается извне, как сила извне. iii Текст Эдмунда Берка 1757 года «Философское исследование происхождения наших представлений о возвышенном и прекрасном» расширяет «ужасно-возвышенное» Лонгина: в то время как красота для Берка успокаивает, возвышенное заставляет сомневаться в собственном существовании и угрожает гармония и порядок.Противостояние безмерности, величия или необъятности вызывает такой ужас. В то время как прекрасное имеет человеческий масштаб, и зритель может воспринимать его во всей полноте, возвышенное — нечто за пределами человеческого масштаба; невозможно и воспринять, и понять. iv Это качество непознаваемости, которое вызывает ужас, обнаруживается в таких состояниях бытия, как одиночество и тишина, а также в таких объектах, как вершины гор и бурное море. v Эта концепция возрождается в восемнадцатом веке как возвышенный ландшафт с его ощущением потенциальной опасности, краем океана или обрыва.Макэвилли отмечает, что возвышенное в данном случае представляет собой ответ на рост секуляризма, поскольку оно объединяет понятие Бога с другой категорией опыта. Таким образом, романтизм мог заменить дискредитированное христианство Просвещения Возвышенным: «природа должна была стать несколько секуляризованной версией церкви» vi в работах таких писателей, как Вордсворт, и художников, таких как Дж. М. У. Тернер.
Книга Иммануила Канта « Критика суждения» (1790) переносит акцент на возвышенном с объекта на субъект.Для Канта возвышенное, порожденное объектами мира, не является самим внешним объектом, скажем, вершиной горы. Возвышенное — это умственный процесс, особый субъективный опыт, который представляет субъекту пределы человеческих знаний. Подчеркивая предмет и пределы человеческого познания, кантовское возвышенное в конечном счете опирается не на саму Природу, а на человеческую способность рассуждать о Природе. В более ранних взглядах на возвышенное оно было неразумным, иррациональным и т. Д. Внося разум в возвышенное, некоторые, например, МакЭвилли, утверждают, что Кант усмиряет возвышенное в рациональное протестантское видение, но Кант также переопределяет и расширяет возможности разума. сам.Я бы сказал, что акцент Канта на связи возвышенного с разумом не подавляет возвышенное, а, скорее, сосредотачивает знание вокруг предмета. Вместо того, чтобы усмирять возвышенное, Кант углубляет его, делая фундаментальным для человеческого мышления.
Акцент Канта на структурах человеческого разума и его способности познавать и познавать мир занимает центральное место в его критической философии. Он делит ум на несколько способностей, первая из которых называется Воображением. Воображение, также называемое чувственной интуицией, — это способность к чистому опыту, способность чувств.Это способность, которую мы используем, чтобы воспринимать вещи такими, какими они кажутся нам через чувственный опыт, то, что Кант называет феноменами. Воображение — это способность восприятия, понимания и представления. Если я, например, вижу собаку, я улавливаю ее чувственные особенности с помощью воображения. Затем вторая способность, называемая Пониманием, познает этот феномен в концепцию. Когда я смотрю на собаку своим воображением, я вижу конкретное четвероногое животное, тогда мое понимание дает мне возможность связать то, что я вижу, с понятием «собака» и думать о собаке, не ограничиваясь этой единственной определенной собакой.Способность понимания — это способность зачатия, понимания и повторного представления. Таким образом, сочетание двух способностей — воображения и понимания — позволяет мне как постигать, так и постигать чувственные детали вокруг меня.
По Канту красота возникает в чувствах (т. Е. В воображении), но в конечном итоге ведет к «неопределенным концепциям» понимания. Эстетическое суждение — это опыт, в котором воображение представляет образ разуму, который блокирует импульс понимания к созданию абстрактного понятия, которое будет эффективно содержать или делать понятными детали чувств.Вместо овладения сенсорными данными (как в примере с собакой) понимание гармонирует с ними таким образом, что порождает неопределенное понятие. Например: когда мы обращаем внимание на облака в небе, наше воображение улавливает определенные чувственные детали, но может оказаться неспособным суммировать чувственные детали в определенное понятие. Мы теряемся в спокойном созерцании, в свободной игре между способностью воображения и способностью понимания. Ни один из факультетов не побеждает, но они существуют в своего рода совершенной гармонии.
Красота — это чистый эстетический опыт. Это называется чистым суждением вкуса. Есть определенные критерии, которых субъект должен придерживаться, чтобы судить о прекрасном, выносить чисто эстетическое суждение. Первый критерий — незаинтересованный субъект. Приятное отличается от прекрасного, потому что связано с интересом или желанием. То, что просто приятно, удовлетворяет чувства и не ведет к неопределенным представлениям. Если я голоден, я хочу есть. Мой голод вызывает интерес.Когда я ем от голода, я могу описать свою еду как приятную, но не как красивую. Кроме того, мое удовольствие — личное; кто-то менее голодный может не получать такого же удовольствия.
В то время как приятное — это личное суждение, прекрасное — это общественное мнение. Если я войду в главный купол Тадж-Махала и считаю мраморные стены красивыми, я не могу основывать свое суждение на моем интересе к нему, скажем, об использовании его в утилитарных целях для укрытия. Если бы моя оценка купола была связана с тем, как я его использовал, это было бы связано с тем, что Кант называет субъективным интересом.Более того, если я судил об объекте на предмет его полезности в целом, полагая, что объект может быть полезен другому человеку, то суждение об объекте основывается на его объективной цели. В последнем случае я основываю свое суждение на определенной концепции «полезности». Чистые суждения о вкусе не могут основываться на определенных понятиях. Кроме того, если я сужу об этом интерьере на основе исторического происхождения, говоря, что я могу оценить плиточную работу, например, из-за моего академического понимания архитектуры Великих Моголов и ее стилистических новшеств, я основываю свое суждение на определенной концепции.Если я ценю Тадж-Махал из-за пронзительной истории любви, которую он создал, я основываю свое суждение на моральной концепции неизменной любви. Кант отмечает, что критики часто приписывают красоту самым правильным геометрическим фигурам. Кант отвергает представление о том, что правильная фигура сама по себе красивее неправильной на основе совершенной формы. Если бы мы судили о красоте на основе такой доктрины, мы бы основывали ее на определенной концепции, моральном суждении о добре, а не на эстетическом суждении о прекрасном.Круг, квадрат или куб не лишены красоты по своей природе, но если мы судим об их красоте в соответствии с этой закономерностью, мы не сможем судить о вкусе чисто.
Если мое суждение о интерьере не основано на субъективном интересе или какой-либо определенной концепции, я предполагаю, что мое удовлетворение — это удовлетворение всеобщего. Это понятие образует второй из кантовских критериев чистого суждения о вкусе, критерий субъективной универсальности. Это понятие вызвало много путаницы и разногласий за последние двести лет.Поскольку в мире Канта структуры разума универсальны, я предполагаю, что каждый мог оценить это здание как красивое, что каждый мог свободно играть между этой сенсорной интуицией и этими неопределенными концепциями. Универсальность чистого суждения о вкусе — это не утверждение, а предположение, и поэтому в конечном итоге основывается на чувствах субъекта. В отличие от приятного, которое я считаю личным, у меня сейчас такое твердое убеждение, что мое суждение о прекрасном универсально, что я ошибочно требую согласия от других: «он говорит:« вещь прекрасна », и он не считает о согласии других с его суждением об удовлетворении, потому что он находил это соглашение несколько раз прежде, но он требует этого от них.Он обвиняет их, если они судят иначе, и отрицает их вкус ». vii Несмотря на мое убеждение в красоте объекта, Кант предупреждает здесь, что нужно воздерживаться от навязывания этого другим: «все суждения вкуса суть единичные суждения» viii и «не может быть правила, согласно которому кто-либо должен быть вынужден признать что-либо прекрасным. Мы не можем давить [на других] с помощью каких-либо причин или фундаментальных утверждений, наше суждение о том, что пальто, дом или цветок красивы. ix Мое предположение о его универсальной красоте основывается на моем бескорыстном участии, а не на самом предмете, поэтому любое определение универсально прекрасного было бы глупостью и противоречило бы целям Канта: «Не может быть объективного правила вкуса, которое будет определять посредством представлений о том, что прекрасно ». x
Наконец, мы подошли к последнему из критериев чистого суждения вкуса: целеустремленность без цели. Оценка объекта не должна исходить из объективной цели или какой-либо практической полезности.Другими словами, чистое суждение о вкусе не происходит из утилитарной цели питания (как в случае с едой) или укрытия (как в случае с Тадж-Махалом). Следовательно, объект, который мы наблюдаем, называется бесцельным. Целенаправленность — это внутренняя логика, своего рода интенциональность объекта, основанная на абстрактных принципах. В случае объекта целесообразность заключается в его дизайне. Вот почему цвета и звуки сами по себе не могут быть красивыми, а оставаться просто приятными, как описывает Жиль Делез в своем перефразировании Канта: «Цвет и звук слишком материальны, слишком укоренились в наших чувствах, чтобы отражаться в нашем воображении таким образом: они скорее вспомогательные, чем составляющие красоты.Главное — это дизайн, композиция, которые как раз и являются проявлением формальных отражений ». xi Другими словами, фиолетовый цвет, например, сам по себе не имеет смысла. Только когда он помещен рядом с другим цветом в композиции, он может иметь целенаправленность и приближаться к красоте. Здесь Кант отмечает, что в повседневной речи люди часто используют слово «красивый» для обозначения приятного. «Один фиолетовый цвет мягкий и прекрасный; для другого он вымыт и мертв. Итак, что касается приятного, справедливо основное положение: у каждого свой вкус (вкус чувств).Совершенно иначе обстоит дело с красивым ». xii Таким образом, когда мы смотрим на внутренние мраморные стены, целесообразность связана с их внутренним порядком, изменением масштабов, повторением мотивов, постоянством цвета. Целенаправленность можно найти в предметах искусства или в объектах природы. Рассмотрение цветка в природе для Канта представляет собой своего рода целенаправленность, преднамеренность или замысел в природе: «независимая природная красота открывает нам технику природы, которая представляет ее как систему в соответствии с законами, принцип которых мы выполняем. не найти во всей нашей способности понимания.Этот принцип является принципом целенаправленности … но также принадлежит к чему-то аналогичному искусству ». xiii Целенаправленность не может быть основана на экстернализованных определенных концепциях, таких как геометрическая регулярность фигур, но должна быть выведена из нашего чувственного опыта объекта. Только взглянув на интерьер, мы можем понять его целесообразность и признать его прекрасным. Мы не можем описать целесообразность отдельно от самого объекта.
Мы видели, как объект может считаться универсально красивым, как это суждение не может основываться на интересах или определенных концепциях.Он основан скорее на целесообразности объекта и порождает неопределенные концепции понимания. Три критерия оценки возвышенного аналогичны прекрасному: бескорыстие, субъективная универсальность и целеустремленность без цели. Возвышенное также возникает в чувствах, то есть в воображении, но вместо того, чтобы вести к неопределенным концепциям рассудка, оно ведет к неопределенным концепциям последней способности разума, называемой Разумом. Помните собаку. Мы взяли смысловые детали, которые затем были познаны в понятие собаки в нашем сознании.Однако собака — это тоже вещь в себе, за пределами моего знания о ней. Можно было бы надеяться, что у собаки есть собственная жизнь, существование за пределами моего человеческого знания. У собаки есть «сущность», в ней есть «собачье». Кант называет вещи сами по себе ноуменами, которые отличаются от явлений или вещей в том виде, в каком они появляются. Сущность собаки, собака сама по себе, ноумен собаки остается для меня непознаваемым, потому что он существует вне границ разума и условий человеческого познания. Несмотря на все мои попытки испытать «собачье», я всегда терплю неудачу.Хотя я не могу понять сущность собаки, я могу размышлять над ней с помощью разума.
В то время как способность понимания имеет дело с предоставлением концепций изображениям, способность разума придает форму тем идеям, у которых нет образа, и идеям, выходящим за пределы человеческого опыта. Например, свобода в природе — это понятие, не имеющее изображения. Он имеет дело с идеями, выходящими за пределы возможности чистого чувственного опыта. Это наша способность разума может считаться с такой концепцией, которая не существует как сенсорная информация.Таким образом, считается, что способность воображения схематизировать, способность понимания принимать законы или судить и способность разума символизировать. Понимание регулирует фенемоны, вещи, как они появляются в нашем чувственном опыте. Разум управляет ноуменами; хотя мы никогда не сможем познать ноумен, разум пытается узаконить и сформировать идеи о том, что лежит за пределами чувственного, то, что Кант называет сверхчувственным.
Возвышенное существует в сверхчувственном. Мы не можем найти возвышенное в объектах, которые мы воспринимаем нашими чувствами: в ограниченных объектах, но мы можем найти его в тех вещах, которые сверхчувственны: в тех вещах, которые безграничны: «Возвышенное можно найти в бесформенном объекте, поскольку в нем или в связи с его безграничностью представлена, и все же его целостность также присутствует для мысли. xiv Здесь идеи Канта прямо отражают идеи Берка, который говорит, что безграничные объекты, такие как природа, представляют собой возвышенное. Однако Кант здесь идет немного дальше, утверждая, что безграничный объект в конечном итоге суммируется в уме благодаря способности разума. Другими словами, возвышенное в конечном счете бесформенно, мы не можем создать для него изображения, и представление о нем остается в нашем сознании. Не существует «адекватного представления» xv возвышенного, и сама эта неадекватность вызывает волнение и возбуждение ума.Кант описывает возвышенное как ужасное; наполняя ум возбуждением, пока он полностью не откажется от чувствительности. Хотя возвышенное происходит из чувств, оно в конечном итоге оставляет чувственное царство в пользу сверхчувственного. Делез отмечает, что для Канта представление о возвышенном представляет нам пределы наших чувств, но в то же время подтверждает устрашающие способности разума и разума, позволяющие исчерпать это ограничение. Таким образом, первоначальное ощущение возвышенного — это чувство ужаса и неадекватности, когда человек осознает пределы восприятия.Это вызывает боль или волнение, отвращение. Красота вовлекает ум в приятную и расслабляющую игру, вызванную гармонией способностей. С другой стороны, возвышенное, представляя пределы чувственного мира, обеспечивает своего рода болезненное движение в уме, вызванное конфликтом способностей воображения и разума. Это движение боли, однако, в конечном итоге снова находит удовольствие, когда субъект начинает упиваться этим самым движением, когда субъект посредством способности разума начинает размышлять о природе самого разума; Кант описывает это движение как субъективную целенаправленность.Хотя мы не можем постичь бесконечность, мы можем представить ее в нашем сознании как идею посредством способности разума, и эта способность создает своего рода удовольствие, притяжение. Возвышенное представляет собой одновременное отталкивание и притяжение. Снова процитируем Делёза, который описывает переживание возвышенного: «Это как если бы воображение столкнулось со своим собственным пределом, заставило напрячься до предела, переживая насилие, которое простирается до крайности его силы … Воображение, таким образом, узнает, что именно Разум доводит его до предела своих возможностей, заставляя признать, что вся его сила ничто по сравнению с Идеей. xvi И именно эта идея, продукт разума, утверждает нашу субъективность, парадоксальным образом показывая нам ее пределы.
Кант называет два вида возвышенного: математически возвышенное, или концепция безграничности в бесконечности, и динамически возвышенное в природе, противостояние с первозданной силой природы. Несмотря на то, что мы не можем найти возвышенного ни в одном объекте, а тем более в любом произведении искусства, Кант действительно использует определенные памятники в качестве примеров для объяснения своей идеи возвышенного.Он упоминает собор Святого Петра в Риме и пирамиды как памятники, которые могут внушить нам чувство неполноценности, связанное с возвышенным. Он отмечает, что нельзя уходить слишком далеко или слишком близко к пирамидам: если он находится слишком близко, он видит отдельные камни, использованные для их постройки, а если стоит слишком далеко, он может суммировать форму, и это больше не безгранично. Чтобы почувствовать их необъятность, нужно встать как раз на нужном расстоянии. Когда мне было восемь лет, моя семья посетила Каир.Я помню, как ехал в машине к пирамидам Гизы, и когда они показались мне в поле зрения, я повернулся к матери и сказал: «Мне страшно». Моя семья засмеялась. Если бы я только прочитал Канта, я бы сказал им, что это ужас, связанный с возвышенным.
Таким образом, главный вклад Канта заключался в сосредоточении предмета, утверждении человеческого разума как самого удивительного. С точки зрения Канта, субъект не может знать сущности или ноумена какого-либо объекта. Мы не можем знать свободную природу, например «собачью»; мы познаем объекты только через чувственный опыт человека, называемые феноменами.Но представление ноумена как категории открывает его для человеческого желания. Делез пишет: «Разум и разум во многом страдают стремление сделать вещи сами по себе [ноуменами] известными нам» xvii и «Пропасть между чувственным миром [феноменами] и сверхчувственным миром [ноуменами] существует только для заполнения ». xviii Эти два утверждения составляют суть понимания программы Канта и его влияния на последующую философскую мысль. Хотя мы никогда не сможем познать «сущность» вещей, для Канта эти сущности существуют.И это наша попытка приблизиться к ноуменам, к вещам в себе, к сущностям, такова природа самого эстетического. Эстетическое суждение (красота, но тем более возвышенное) — это попытка прийти к ноумену с помощью разума и, следовательно, к сути человеческой субъективности.
Макэвилли отмечает, что представление возвышенного в живописи перешло от работ Каспара Давида Фридриха и Тернера к модернистскому проекту абстрактной живописи, что подтверждается работами, которые часто называют «абстрактным возвышенным».В этом царстве живописи почва обширного пейзажа становится своего рода пустотой, которая полностью захватывает фигуры в некое монохромное блаженство. Как описывает Макэвилли, поверхность самой картины становится «абсолютно первичной картиной, которая изображает себя, как Аристотель описал абсолютное начало сознания как мысль, которая думает сама». xix Поскольку возвышенное — это то, для чего у нас не может быть изображения, это казалось вероятным занятием для художников-абстракционистов.В статье 1961 года для Art News, озаглавленной «Абстрактное возвышенное», Роберт Розенблюм сравнивает возвышенное ощущение от просмотра картин Марка Ротко, Клиффорда Стилла, Барнетта Ньюмана и Джексона Поллока с возвышенным чувством, которое художники-романтики Фридрих и Тернер искали в своих произведениях. работа:
На абстрактном языке Ротко такая буквальная деталь — мост сочувствия между реальным зрителем и представлением трансцендентного пейзажа — больше не нужна; мы сами — монах перед морем, молча и задумчиво стоящий перед огромными и беззвучными картинами, как если бы мы смотрим на закат или лунную ночь.Подобно мистической троице неба, воды и земли, которая в «Фридрихе и Тернере», кажется, исходит из одного невидимого источника, парящие горизонтальные слои завуалированного света в «Ротко», кажется, скрывают тотальное, отдаленное присутствие, которое мы можем только интуитивно постичь. и никогда полностью не понять. Бесконечные светящиеся пустоты уносят нас за пределы разума к возвышенному; мы можем подчиниться им только в акте веры и позволить себе погрузиться в их сияющие глубины. хх
Розенблюм утверждает, что картина Ротко выводит человека «за пределы разумного в возвышенное.Похоже, он придерживается представления Берка о возвышенном как иррациональном, а не кантовского представления, которое отдает предпочтение способности разума представлять возвышенное во всей его полноте, хотя и до бесконечности. Но, тем не менее, это утверждение отдает предпочтение кантовскому изречению, в частности, упоминанию интуиции и ее неспособности полностью постичь: таким образом, относясь к неопределенным концепциям рассудка и разума Канта. Помимо Розенблюма, Клемент Гринберг был еще одним влиятельным критиком, который продвигал этих художников именно за их чистоту и самореферентность в своем знаменитом эссе «Модернистская живопись».Таким образом, акцент Канта на «чистоте» красоты и возвышенного, его упор на незаинтересованность и отказ от определенных внешних концепций послужили топливом для тех, кто отстаивает повестку дня «самореференции», искусства и «искусства ради искусства». Кант подпитал категорию эстетического, которая, как говорилось ранее, отвергает внешние концепции в пользу внутренней целесообразности. Кант хотел, чтобы вы забыли то, что вы знаете, когда смотрите на объект. Забудьте о своем интересе к нему, забудьте, кто это сделал, забудьте о его отношении к другим произведениям или вообще к каким-либо определенным концепциям.Вырвите это полностью из контекста; универсализировать его. Рассматривайте объект как таковой, а не с точки зрения его полезности или места в истории. Позвольте своему воображению уловить детали смысла, а ваше понимание или разум вступить в непосредственную свободную игру: но никогда не суммируйте по-настоящему, никогда не приходите к определенной концепции. По этим причинам Кант выступает как формалист из всех формалистов, величайший поборник мифологии привилегированной области эстетики, помимо идеологии, условностей, языка и самой истории.
Делез, мыслитель-постмодернист, который кратко излагает идеи Канта в тексте под названием «Критическая теория Канта», назвал его «книгой о враге». xxi Как Кант враг Делёза? Последние несколько десятилетий структуралистские и постструктуралистские теории прямо обращаются к невозможности кантовской гуманистической модели субъективности и самореференциальности в искусстве, которое оно дает. Семиотика, применительно к тем же абстрактным экспрессионистским работам, представляет невозможность забыть то, что мы знаем или желаем, в идеале бескорыстия, несмотря на желание Розенблюма представить работы Ротко как «неразумные».Мы то, что знаем. То, чем мы являемся как сущности, неотделимо от того, что мы приобретаем через опыт, язык, условности и культуру. Реальность, Природа, Душа, Желание и Потребность не являются первичными сущностями, они сами являются репрезентациями, претензиями, если хотите, контейнерами идеологии, культурно сконструированными через сам язык. Душа существует только в моем высказывании о ней и в общем языке, который позволяет мне передавать идею души вам. Таким образом, значение души меняется со временем и в контексте.Внутренность больше не считается приоритетной, незапятнанной силой, которая дает человеческое творчество. Кантовская гуманистическая модель «я», модель субъективности, утверждающая существование сущности, ноумена, является представлением сама по себе, если хотите, знаком. Но кантовская модель субъективности предсказывала ее упадок; поскольку, хотя гуманистическая модель Канта представляет собой центрированную эссенциалистскую субъективность, она подтверждает нашу неспособность когда-либо знать или определять эту сущность. Таким образом, по иронии судьбы именно сосредоточение Канта на границах субъективности проложило путь западной мысли к переосмыслению самой категории субъекта как единого целого.Кант, кажется, почти умышленно представляет себя своего рода боксерской грушей для многих последовавших за ним философов. Именно его настойчивость, его рациональные доктрины и изречения о самореферентности, универсальности и сущности составляют своего рода икону модернизма, которую следует отвергать. Однако совсем недавно такие критики, как Саид, убедительно и единолично отвергают то, что он называет [постмодернистским] структуралистским антигуманизмом, в пользу реальной потенциальности и материальности гуманизма: «несмотря на (на мой взгляд) поверхностные, но влиятельные идеи определенного поверхностного типа. радикального антифундационализма, настаивающего на том, что реальные события являются в лучшем случае лингвистическими эффектами… они настолько противоречат историческому влиянию человеческой деятельности и труда, что делают их подробное опровержение здесь ненужным.” xxii
Марксистские критики, такие как Терри Иглтон, критикуют категорию эстетического как категорию, которая пытается отрицать идеологию (потому что это может быть связано с определенными концепциями), но в конечном итоге воплощает ее в полной мере. Для самого Маркса спор между его сочинениями и Кантом заключается в идее «потребительной стоимости». Для Маркса потребительная стоимость объекта — это полезность вещи, основанная на неотъемлемых и естественных свойствах вещи. Хлеб имеет потребительскую ценность, потому что утоляет голод.Он удовлетворяет человеческие потребности, что Кант назвал бы интересом. Для Маркса концепция полезности не очерняет объект, а, скорее, возвышает его, цитируя Иглтона: «Полезность объектов — это основа, а не антитеза нашей оценке их». xxii Гений капитализма заключается в его способности делать самым извращенным образом то, что действительно предлагал Кант, — отделить объект от кажущегося интереса к нему, от его полезности, от его полезности. Как отмечает Иглтон: «Классическая эстетика и товарный фетишизм очищают специфичность вещей, превращая их чувственное содержание в чистую идеальность формы. xxiv Таким образом, для Маркса мы являемся существами, заинтересованными, и этот интерес необходим и неоспорим. Незаинтересованность остается полезной фикцией для капиталистических идеологий. Товарный фетишизм, то есть следование интересам в его крайнем случае, является конечным результатом кантовского идеала бескорыстия. Не нужно покупать новую машину каждые три года, но инвестиции в чистый стиль, помимо полезности, побуждают продолжать покупать. Предупреждение Маркса об опасности рассматривать предметы отдельно от их потребительной стоимости подтвердилось в полной мере.
Видение Канта, таким образом, оказалось прекрасной фантазией, так что позвольте нам праздновать его, даже если мы понимаем подводные камни идеализма. Проект Канта также представляет собой скептицизм, и именно благодаря его настойчивости на скептицизме, присущем критике, последующие мыслители могут критиковать его. В настоящее время наблюдается импульс к пересмотру и возрождению идей гуманизма, универсальности и сущности в постпостмодернистском мире. Недавно, в году, после теории , Иглтон примиряет свои марксистские влияния с идеалами универсальности, прося материалистического представления об универсальности, основанного на общей реальности наших смертных человеческих тел над «знакомым призраком универсальности, разыгрываемым постмодернистами … западным заговором, который демонстративно проецирует наши местные ценности и убеждения на весь земной шар. xxv Несмотря на неправильное использование гуманизмом политики и государственной политики в форме этноцентризма и империи, Саид просит нас помнить о гуманистическом идеале, «основанном на способности человека создавать знания, а не поглощать их пассивно, реактивно и тупо. ” xxvi Можем ли мы аналогичным образом рассматривать универсальность Канта не как маскировку авторитаризма, а как утверждение того, что делает людей общими? В идеях Канта есть нюансы; они несут инструменты собственного демонтажа.В этом формалистическом мире есть благоговение перед разумом, предел субъективности в этом гуманистическом видении и парадокс универсальности, которая также является субъективной.
i Иглтон, Терри, Идеология эстетики (Oxford: Blackwell, 1990), 100.
ii Макэвилли, Томас, «Перевернутый вверх ногами и разорванный на части». в Sticky Sublime, Ed. Билл Бекли (Нью-Йорк, Allworth Press, 2001) Мой текст в значительной степени опирается на структуру и контекст, предоставленные краткой историей возвышенного МакЭвилли; Тем не менее, я в конечном итоге сосредотачиваюсь на значении и актуальности кантовского возвышенного через первичный текст Канта.
iii Там же, 59.
iv Там же, 62.
v Там же, 63.
vi Там же, 60.
vii Кант, Иммануил, Критика суждения, Пер. J.H. Бернард, (Нью-Йорк: Haffner Press, 1951), 47.
viii Там же, 49.
ix Там же, 50.
x Там же, 68.
xi Делёз, Жиль, Критическая философия Канта: Доктрина факультетов, Пер.Хью Томлинсон и Барбара Хабберджам, (Миннеаполис: Университет Миннесоты, 1983), 47.
xii Канта, 47.
xiii Там же, 84.
xiv Там же, 82.
xv Там же, 84.
xvi Делёз, 49-50.
xvii Там же, 24.
xvii Там же, 39.
xix МакЭвилли, 72.
xx Розенблюм, Роберт. «Абстрактное возвышенное.» Art News (февраль 1961 г.), 38-41, 56-7, 40.
xxi Делёз, xvi.
xxii Саид, Эдвард, Гуманизм и демократическая критика , (Нью-Йорк: Колумбия, 2004 г.), 10.
xxiii Иглтон, 205.
xxiv Там же.
xxv Иглтон, Терри, After Theory, (New York: Basic, 2003), 160.
xxvi Саид, 11.
Дополнительная литература:
Эшфилд, Эндрю и Питер де Болла, редакторы, Возвышенное: Читатель британской эстетической теории восемнадцатого века, ( Кембридж: Кембридж, 1996)
Бекли, Билл, Sticky Sublime, ( New York: Allworth Press, 2001)
Берк, Эдмунд, Философское исследование происхождения наших идей возвышенного и прекрасного, (Нью-Йорк: Оксфорд, 1990)
Де Дуве, Тьерри, Кант после Дюшана .
 С ними можно хорошо провести время и вдоволь посмеяться. И тем не менее в этой карикатуре один часто корчит другому рожу и своей пустой головой ударяется о голову своего собрата.
С ними можно хорошо провести время и вдоволь посмеяться. И тем не менее в этой карикатуре один часто корчит другому рожу и своей пустой головой ударяется о голову своего собрата.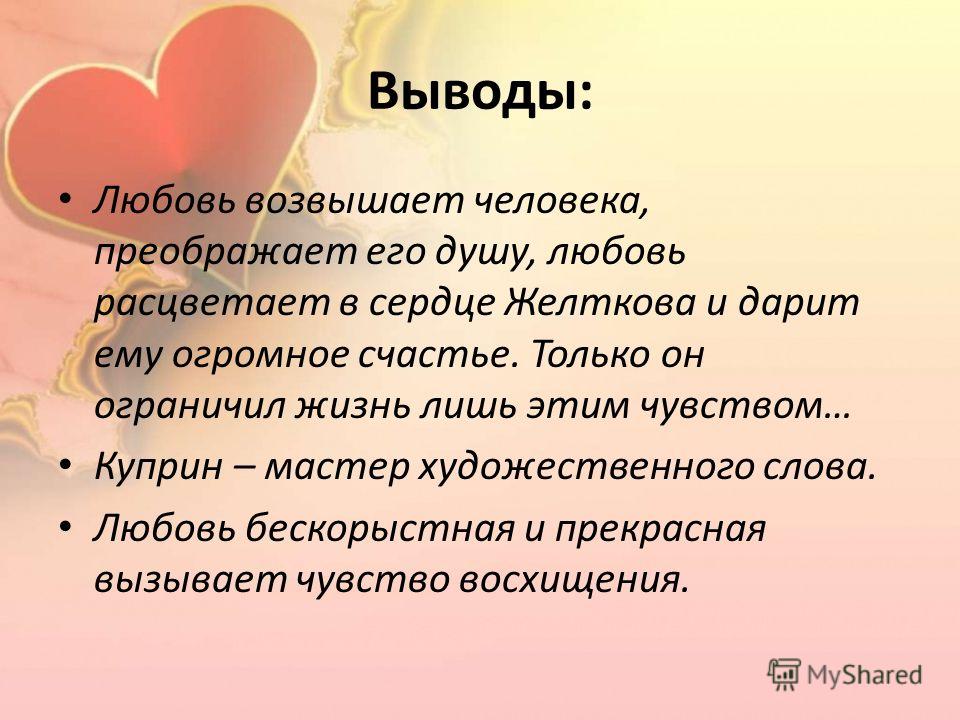 Страдающий ребенок, несчастная и милая женщина заставляют наше сердце наполниться этим чувством уныния, и в то же время мы хладнокровно воспринимаем весть о большом сражении, в котором, как это легко сообразить, значительная часть человеческого рода должна безвинно погибнуть в ужасающих мучениях. Иной государь, с грустью отвращавший свое лицо из сострадания к какому-то одному несчастному человеку, тем не менее нередко из тщеславия отдает приказ о войне. Никакой пропорции в действии здесь нет; как же можно в таком случае сказать, что всеобщая любовь к людям есть причина [этих действий]?
Страдающий ребенок, несчастная и милая женщина заставляют наше сердце наполниться этим чувством уныния, и в то же время мы хладнокровно воспринимаем весть о большом сражении, в котором, как это легко сообразить, значительная часть человеческого рода должна безвинно погибнуть в ужасающих мучениях. Иной государь, с грустью отвращавший свое лицо из сострадания к какому-то одному несчастному человеку, тем не менее нередко из тщеславия отдает приказ о войне. Никакой пропорции в действии здесь нет; как же можно в таком случае сказать, что всеобщая любовь к людям есть причина [этих действий]? Напротив, тот, кто частью своего обеда пожертвует ради музыки, или, рассматривая картину, может погрузиться в состояние приятной рассеянности, или с удовольствием читает остроумные вещи, хотя бы это были всего только поэтические безделки, — тот в глазах почти каждого кажется человеком более тонким, о нем имеют более благоприятное и более лестное мнение.
Напротив, тот, кто частью своего обеда пожертвует ради музыки, или, рассматривая картину, может погрузиться в состояние приятной рассеянности, или с удовольствием читает остроумные вещи, хотя бы это были всего только поэтические безделки, — тот в глазах почти каждого кажется человеком более тонким, о нем имеют более благоприятное и более лестное мнение. Сила чувства рождается от величины трудностей, которые человеку приходится преодолевать. Возвышенность чувств рождается от согласованности работы отделов мозга.
Сила чувства рождается от величины трудностей, которые человеку приходится преодолевать. Возвышенность чувств рождается от согласованности работы отделов мозга.